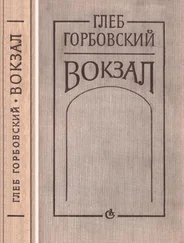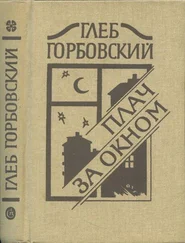Сегодня женщины хоть и хандрили, хотя и проклинали кого-то там, однако призвали меня к себе в комнату, рюмку водки поднесли. Красного мяса срез от балыка кижуча свежепросоленного перед глазами замаячил. Как стоп-сигнал на пустынной ночной дороге.
— Выпей, Венечка. За несчастных, измученных мужской диктатурой женщин. Выпей, безвредный мой. Нету в тебе самца. За это тебе почет и уважение.
— И… все? И ничего, кроме почета? — вопрошаю.
— А… фунт прованского еще! — острит, забравшись с ногами в кресло, Евгения Клифт.
Двух этих женщин, внешне совершенно непохожих друг на друга, жирафу и козочку, объединяла одна общая страсть: женское честолюбие. Мужское честолюбие, как правило, разъединяет. Женское — сплачивает. Во вселенском масштабе. От честолюбия материнского до честолюбия любовницы. Но еще крепче, нежели честолюбие, единит женские сердца ее величество Жалоба.
О вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
А действительно, что? Что, кроме беспокойства туманного, привнесла в сердце мужчины хотя бы ты, о Юлия?
* * *
Рано или поздно приходит конец всему. Даже помидорам в рефрижераторе. Вспотев на искусственном морозце холодильника и заполучив на свою черную рубаху несколько новых пятен органического происхождения, вернулся я под вокзальные своды… и тут же забегал по залу, ища единственного знакомого мне человека, Сергея Фомича Купоросова, или как там его по паспорту? Интересно, что за десять дней дорожного с ним общения до Москвы (включая Амур-батюшку) я так и не узнал, кто он — Купоросов? В смысле биографических данных. Узнал я другое, то есть куда большее: ощутил под прожженной, тертой маской обладателя доброго сердца, обрел хорошего, с негнилой душой, человека. А в смысле «данных» — кем он только не рисовался моему воображению, опиравшемуся на оброненные словечки, демонстрируемые замашки и прочие приметы: бывшим уголовником, бичом, отставным военным, морским волком, денежным воротилой, спекулянтом, опростонародившимся инженером-геологом… Так ведь не в «данных» суть. То бишь не в них одних. «Был бы человек хороший!» — как говорил поэт Юрий Паркаев.
Зал ожидания — это все ж таки не зал Большого театра. Люстра поменьше, бархат на подлокотниках отсутствует, паркет каменный, ряды в партере несколько по-иному расположены, занавес поменьше и всего лишь перед дверью в ресторан, а так называемые подмостки, то есть сцена, на которой выступают «артисты», находится не в определенном, традиционно-театральном, противоположном зрительскому глазу месте, а скорей всего — где-то в центре помещения, на манер авангардистских постановок двадцатых годов, когда действие пьесы разыгрывалось чуть ли не в гуще народа, причем народ сам «выступал», время от времени подавая реплики, а то и производя жесты.
Короче говоря, сориентироваться в зале ожидания или, что вовсе проблематично, отыскать в нем малознакомого человека — отнюдь не так просто. Пришлось достать из портфеля очки и в таком начисто преображенном виде (лично меня ношение очков делает неузнаваемым) пускаться на поиски Фомича.
В мрачном закутке, за никчемными, порожними ларьками, Купоросова почему-то не оказалось. Ну и что? Не все же ему тут лежать, не безвылазно же. Ну забыл он про меня. Кто я Купоросову? Второстепенный персонаж. У Фомича своих проблем — ни в сказке сказать, ни пером описать. Скажем — косоглазенькая. Для чего она ему послана-наслана? Для вечной любви? Тогда почему он не летит ей навстречу с восторгом в глазах? Почему сомневается? Терзается почему, будто Гамлет? В любви-то пребывая, в чувствах не копошатся, не торгуются — что по чем. А всего лишь блаженствуют безоглядно.
Может, в ресторан отлучился? Да мало ли… Хотя, конечно, дружба с Купоросовым обещала, даже сулила некие в моем положении перспективы, просветы определенные. В недалеком будущем. В кармане у меня после двух с половиной часов «спинной» работенки лежали двадцать пять «помидорных» рублей. Неприкосновенных, билетных! Еще столько — и можно ехать дальше. На законном основании. Ехать домой. К маме с папой. К родному порогу. К приступку каменному перед дверью родительской квартиры, что на Васильевском острове в старинной «доходной» семиэтажке, где у меня своя комната, а в ней свои книги, свой диван уютный с углублением для определенных частей тела, с этакой лункой или лузой, образовавшейся от пребывания на его поверхности многочисленных представителей моего фамильного рода, а еще стол с деревянным резным барьером, с заборчиком восхитительным и старинным же зеленым сукном по всей широчайшей поверхности стола, — комната со своей «петербургской» пылью в мебельных переулках, ежедневно собираемой матерью, как некий нежелательный урожай, преумножающий себя с завидным постоянством.
Читать дальше