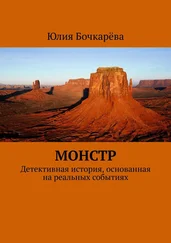Что это? Я же сказала, что не желаю больше видеть эти картинки…
Анна перебирает детские фотографии, вынутые из выдвижного ящика, на дне которого видит и иконку Богородицы, с пятнами губной помады, покоробившуюся от высохших слез.
Ей молишься, безумная? Не знаешь, что это так же, как молиться неизвестно кому, преклонять колени перед кошкой или деревом? Разве я тебе не говорила? Слушай, давай я все это порву и выброшу, и покончим с этим… Хорошо, ребенка оставлю, хотя скоро тебе придется… Но что за языческая любовь связывает тебя с этой женщиной, какая же грешная слабость заставляет тебя целовать ее лицо, лобзать так сильно?
Не говори так, — рыдает Златица, ее руки отяжелели от слабости, так бывает у маленьких детей от щекотки.
Ты должна меня услышать. Сочувствую, но Он так пожелал. Сколько я должна тебе повторять: ребенку нельзя было делать переливание. В крови человека его душа, поэтому нельзя ее брать от другого. Лучше умереть и спастись, чем прозябать, заразившись кровью безымянного грешника, понимаешь? Иди сюда, маленькая моя, не надо вырываться…
Анна прижимает сокрушенную кузину к груди, гладит и обнимает, а потом шепчет: Пойми, наконец, это грязь, из-за него все потеряно. Оставь его! Будет у нас другой.
Замолчи, ведьма, — рыдает Златица, не в силах вырваться из ее объятий. Анна крепко держит ее и старательно кончиком языка собирает слезы с серых щек.
Я тоже глубоко тронут, задыхаюсь в своем подсвечнике и не могу воспротивиться неуместному воспоминанию об одном старинном рисунке (кажется, гравюра на металле), на котором две плачущие девушки в поцелуе делятся своим любовным отчаянием. Осмотревшись (чтобы дать им время привести себя в порядок), замечаю, что вся комната будто нарисована, и даже присутствие женщин не мешает назвать картину натюрмортом.
Забыл сказать, что в помещении, где мы в настоящий момент хлюпаем носами, смешались некоторые функциональные нюансы, оно служит нашим жильцам кухней, столовой, а также комнатой для уединенного чтения и плача. Пластмассовую детскую ванночку прислонили к двери, которая никуда не ведет. То есть, она постоянно заперта, не как те, загадочные, из готических кровавых сказок, причина проста: дверь заставлена хозяйскими вещами. Окно рядом с ней тоже ведет в похожее никуда. Стена заканчивается гладильной доской, на которой уже много дней увядает темный рентгеновский снимок.
Солнце на другой стороне, и уже сейчас можно бы зажечь свечу, но от нее остался только фитиль в затвердевшей белой лужице (я знаю это, я держусь за него), так что упомянутый поэт мог бы без особых помех, употребив небольшую гиперболу, назвать это серебряным собором. (Поэт наполовину еврей, но воткнуть сюда синагогу было бы вульгарно и ожидаемо.) Из насекомых на его портрете обнаруживаем только ночную бабочку (откуда она?), которой следовало бы прилететь на пламя свечи. Но поскольку ничего из этого здесь нет, моя метафорическая самоидентификация с ангелом с опаленными крыльями — всего лишь меланхолическая проекция. Опять же, бабочка больше подходит какому-нибудь набоковскому подростку (с разумом, помутившимся от неизрасходованного семени), здесь уместнее ожидать двух-трех одуревших мух, потому что в расползшейся целлофановой упаковке с утра дрожит кусок измученной печенки. И несколько рыбин на тарелке потихоньку начинают чувствовать свою святость…
Анна больше не в состоянии выдерживать медленное развитие этой затянувшейся драмы и считает, что наступил подходящий момент выпустить измученную Златицу из своих объятий, после чего подходит к рыбам и начинает потрошить их, одним движением извлекая через жабры все внутренности. (Мои кошки сейчас волнуются, как перед армагеддонским землетрясением или дождем.)
Златица, все еще всхлипывая, откусывает от яблока, которое так и оставит на бортике раковины. Молча смотрит, как Анна расправляется с побледневшими форелями. В открытое окно (которое ведет в никуда) слышит детский визг и бешеные удары молотка. Анна щурится, с напряженной гримасой (высунула и прикусила толстый язык), пытаясь выскрести последние слизистые остатки рыбьей утробы, скользящие меж ее пальцев.
Дай мне нож, — приказывает она.
Златица берет нож (с кончика которого стекает кровавая капля), останавливается и спокойно говорит, что отрежет ей язык, если она еще хоть раз упомянет ее ребенка. Тетка не может вымолвить ни слова. Анна смотрит на рыбу в руке и безвольно позволяет ей упасть на фарфор. Три рыбки лежат на тарелке, готовые накормить мир. Анна улыбается, вытирает о себя руки, нюхает их, после чего садится, чувствуя себя, как рыба в клетке, как первый христианин в каких-то надземных катакомбах. Поднимает книгу в черном переплете, которую Златица оставила у шкафчика. Открывает ее, и, углубившись в чтение, потихоньку клюет носом.
Читать дальше