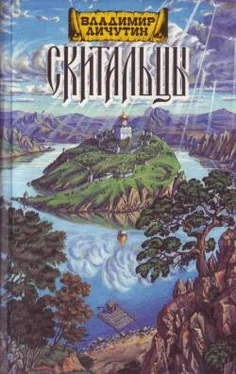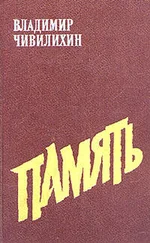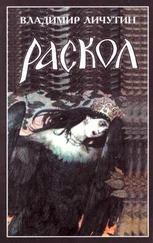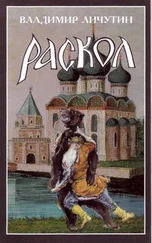– Ты, сволочь… Эй ты, сволочь?
Было непонятно, к кому он обращался в камере. Острое лицо соседа, запрокинутое назад, казалось мертвым, и Донат так решил, что караульщик строжит его:
– Тебе, тебе говорю, мышь ты лабазная!
– Я, что ли? – отозвался Донат.
– Ну так чего ж, и ты сволочь. Чего орешь-то? Людей не видал?
– Да с умалишенным-то поспи. Тебя бы с умалишенным.
– Я тебе покажу малишенного, – лениво, но грозно перебил караульщик. – Я, если захочу, и с покойником тебя положу… Молодой ишо, а чего захотел. Ты не бойся. Он, можно сказать, мать свою убил, – прошептал сторож, приклонившись к окну и вытянув губы трубочкой. Он так прошептал, словно и сам боялся злодея, замкнутого в темницу.
Но тот, оказывается, не спал и все слышал, встрепенулся вдруг и снова пронзительно, с ненавистью закричал:
– Не убивал я, не убивал. Он врет все, врет, врет. Убивать грех.
Страж плюнул, фонарь у входа запалил пуще, подлив жиру, и ушел.
Сосед дышал ровно, еще что-то бормотал угасающе, потом голос его ушел в стены, в купол, пророс сквозь камень, и там, под сводами, в скрещениях каменных арок, еще долго что-то шуршало и сыпалось, гнездились твари невидимые и нежить. Сосед издал фистулу, Донат приподнялся на локоть и увидел вроде бы мертвое, далеко назад запрокинутое лицо. Видел ли он сейчас в тревожном сне мать свою, распластанную на печи, со спущенными нитяными чулками, грузную, простоволосую, мертво глядящую в потолок, где словно бы запечатлелось бессмысленное и жестокое лицо сына.
Дарью Насонову, вдову акцизного чиновника, нашли на печи окоченевшей, с порубленной головой: возле приступка стоял топор. Сына же ее, заподозрив неладное, отыскали на берегу моря у карбаса, возле соседней деревни Ковды. Был Андрей Насонов одет в старое пальто серого сукна, на голове теплая суконная шапка без козырька, обшитая синим галуном, на шее два женских платка, один – гарусный, другой – бумажный; подштанники холщовые, полосатые, закатанные по колена, ноги, несмотря на сентябрь, босые и уже синие от холода, под мышкою, однако, теплое одеяло, где завернута была икона старого письма. Пономаря-расстригу вернули в карбасе в Нюхчю, в родной дом, привели к покойной матери для следствия, но он упорно отказывался признать вину.
И лишь однажды, в порыве любви и жалости, когда Дарью Насонову хоронили на погосте и уже покрыли домовину крышей, Андрей вдруг похватился на колени, запричитал и тут же заговорил, запризнавался, будто, когда маменька спала на печи, к ней вдруг залез черный монах в колпаке и стал приставать, и он, Андрей Насонов, этого монаха ударил топором по голове, чтобы тот отстал от матушки. Но когда следователь попросил повторить, Андрей Насонов заперся, и никакие допросы с пристрастием, ни свидетельства печищан не могли уличить его; даже на исповеди он клялся всеми святыми, что руки его чисты, не обагрены родною кровью.
Донька проснулся от распевного торжественного голоса, словно бы подле службу вели. Грустно было, и не хотелось разлеплять глаза: веки набухли, натекли от сырости, что скопилась, не пролившись, в маетном сне. Что за смысл жить теперь, куда приведет жизнь эта каторжанская? Заклеймят, прикуют к тачке, и солнца более не видать.
Донька скосил глаза: в высокое зарешеченное оконце скудно попадал зимний утренний свет; плесенью мазало по нагим стенам; уныло и скудно было в этой подневольной келье. И уже раскаялся, что глаза открыл, ибо снова душа содрогнулась, замлела. Когда при уездной полиции сидел, ловчее было, да и жил как бы во сне. Стены бревенчатые, как в доме своем, и, опять же, голоса людские слышны. Вот словно бы встань, отряхнись, толкнись в дверь – и ты на воле.
Сосед по камере стоял на коленях и высоко возносил голос, при каждом поминании Бога отбивая поклон. Расслышал скрип дерева и, прервав молитву, оглянулся, сказал грубовато:
– Молись, грешник, убийца рода человечьего.
– Лихо, да и молитвы забыл…
– Я напомню. Не ленись, встреть утро. Жива душа-то, жива, братец…
Насонов встал, отряхнул колена. Был он тонок, и серая холщовая рубаха висела как на сухом коле, бледное лицо испито тайной немощью, но черные глаза кротки, чисты и печальны. И хоть бы малый намек на ночные буйства, на душевную неукротимую болезнь. Будто грядущий день, едва народившийся в застиранных серых пеленах, излечил человека от смуты и обновил кровь. А так и есть, наверное? Кто из живой твари не пугается ночи? Какие только призраки не являются к нам в ночные часы и не хозяинуют в сонной душе, совершенно переиначивая время настоящее и прошлое. Донат с любопытством разглядывал соседа, несколько робея перед ним и чувствуя в нем тайную силу человека, отмеченного особой печатью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу