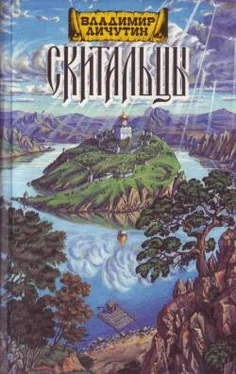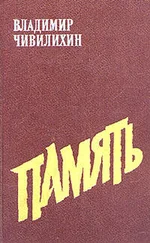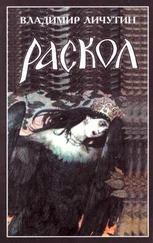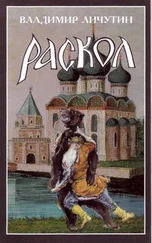Донат вперился взглядом в палача, в его землистое, худое лицо. Какое бы обличье ни принимал бывший уездный исправник, какую бы личину ни надевал, Донат сразу бы признал его, будто он нес печать прокаженности на челе. Был палач в долгополом чистом кафтане, в красной палаческой рубахе, на голове высокая мерлушковая шапка, откуда выбивался светлый легкий волос; ухоженные сапоги с заправленными в голенища плисовыми полосатыми шароварами сияли пуще солнца, и в них можно было глядеться. Но взгляд Сумарокова, погруженный в темные проваленные обочья, был суров и неприступен, будто этим взглядом палач подготавливал жертву к будущим мученьям. Дескать, смирись, бродяга, а я уже охулки на руку не возьму, сниму с тебя шкуру со всем усердьем да и повешу сушиться, но коли не стерпишь, сердешный, и отправишься в дальний путь без возврату, то и там не жалуйся, будто я поскупился на плети.
Донат обсмотрел палача ровным взглядом и остался доволен: пощады не встретит от кнутофильного мастера, все помнит, нечестивец, и поныне лишь живет худой памятью, злобной и темной. У такого быстрее сердце лопнет, душа вылетит облачком в свирепый рот, чем смилостивится он вдруг иль зажалобится.
– Что пялишься, злодей? Чего уставился, бродяга? Не терпится? – свистящим шепотом окрикнул Сумароков, но пугливо оглянулся, как бы не расслышали.
За травлю и брань и самому можно схлопотать порку в кордегардии. Палач не как рыба, ему и полагается быть глухим. Донат не ответил, все с той же усмешкою сдвинул ноги вместе, и его стоптанные пыльные сапоги оказались подле лица ката. Тому даже пришлось пугливо посторониться, ибо так выходило, что заплечный мастер словно бы раздумывал: целовать их иль нет? Раздалась рассыпчатая барабанная дробь, и кортеж тронулся похоронным шагом мимо Соборной пристани, Воскресенской улицы и Александровского сада к Торговой площади, где уже кипел торговый люд, стояло вавилонское столпотворение.
Барабанная дробь мелко сыпалась, храпели жандармские лошади, волнуясь и прижимаясь к телеге, вокруг колымаги загустело народом, нетерпеливые кричали, возбуждая и зажигая толпу: «Богохульника везут!» Бабы плевались вослед, для спеленатого по рукам-ногам грешника у них скорее бы сыскалась слеза и ласковое слово. Но вот подъехали к эшафоту, тюремный священник поднес к губам арестанта распятие, и Донат поцеловал, не осмелился отказаться. На телегу поднялся Сумароков с деревянной узкой коробкой на ремне; коробка скатывалась на живот и мешала палачу, пока отвязывал руки арестанту. Ладонь у Сумарокова была узкая, с длинными пальцами, но необычайно цепкая, хищная, ее прихват Донат почувствовал сквозь поддевку и машинально подивился: «Поднаторел в палачах-то, налился силой». Он покорно сполз с телеги, по лестнице взошел на помост, гремя кандалами. Раздалась воинская команда, солдаты обогнули эшафот саженях в трех, на своих высоких лошадях выстроились жандармы, оголили сабли. Донат спокойно, с ясным взглядом смотрел на приготовления и не чувствовал ни малейшего страха. На эшафот поднялся вслед за палачом человек в форме со шпагой у левого бока. Снова громко скомандовали, солдаты брякнули ружьями, народ обнажил головы, снял свою мерлушковую шапку палач, потом стянул суконный малахай с головы осужденного и кинул в угол помоста. Человек в форме зачитал приговор с перечислением всех проступков арестанта. К эшафоту подходил народ, больше всего женщины из простых, деревенские бабы и мещанки, и бросали на помост медяки, и только это бренчанье и нарушало мертвую тишину, возникшую во время чтения приговора. Чиновник дочитал приговор, только однажды полуобернувшись к Донату и смерив его долгим оценивающим взглядом, словно удостоверялся, а тот ли человек перед ним, – и покинул эшафот. Он спускался по лестнице долго, преисполненный достоинства, и потом во все время экзекуции маячила внизу его темно-синяя фуражка и высокие уши. Палач окончательно вошел во власть, содрал с Доната кафтан, бросил его на помост, где валялась шапка, и цепями, висевшими на позорном столбе, приковал его за локти. Смотри, народ, на богохульника и бойся: каждого, сотворившего зло, ждет неизбежная кара.
Наступили для страдальца самые мучительные минуты, когда затылком ты ощущаешь столб, руки туго стянуты назад и некуда отвесть взгляда, а народ, скопившийся внизу, жарко и едино дышащий, похож на стоголовое хвостатое чудище. Тут его голова, а тело, причудливо изгибаясь, утекает далеко к торжищам, и там, опутав сотни палаток, питейных домов, ларей и магазинов, затаилось в ожидании. На миг Донат ослабел и затосковал, долгие нарочитые сборы, эта торжественность происходящего отнимали силы. Тут даже самое стойкое сердце начинало недоумевать и волноваться. Может, и вправду ты совершил что-то такое, что тебя надобно выставить на поучение? Донат опустил взгляд на толпу, ища в ней поддержки, она слилась в единое, едва колышащееся месиво. Люд глазел с равнодушием и жалостью, радый развлечению и еще тому, что, слава Богу, не его там выставили на посмотрение у черного столба. Он очнулся от боли, толпа по-прежнему колыхалась, кто-то, заметив движение арестанта, вскричал изумленно:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу