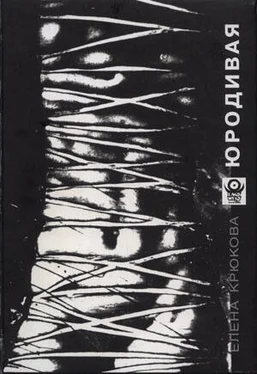— Не двигайся!.. Стой так!.. Молчи!.. Если дернешься — я тебя и отсюда достану!.. Это ты убила его!.. Ты!.. Ты!.. А не я!.. Когда тебя схватят, назовись моим именем!.. Ты прославишься!.. А я выйду через парадный ход!.. Как и вошла!.. Тебя выведут с головой на площадь — покажи ее народу!.. Пусть порадуются!.. Пусть покричат и посмеются, идиоты!.. Они даже ликовать не умеют!..
— Как тебя зовут?!.. — неистово крикнула Ксения в еловую свечную темноту анфилад, обернув негнущуюся шею. Рука немела. Голова, повисшая на волосах в кулаке, тяжелела.
— У-у-у!.. и-и-и-и!.. — невнятно и зловеще донеслось с далеких мраморных лестниц.
Ксения никогда не узнала ее имени.
В спальню ворвались люди, много людей. Стражники, охранники, повара, осветители, швейцары, блюстители порядка, дрессировщики с собаками, писаки, певцы, продиряющие со сна и с похмелья горло, бедняки-приживалы, подвыпившие гости, пробужденные истошными криками, официанты, женщины с испитыми лицами, приставленные для уборки помещения: расширенные глотки их выталкивали гремящий воздух, лица пылали, руки мельтешили и сверкали растопыренными пятернями, кулаки сжимали тяжелые раззолоченные шандалы, раздавался звон наручников, в темном воздухе копошились и гремели проклятия, ругательства, возгласы изумления и ужаса; Ксения стояла молча. Вытянутая рука затекла. Под потолком внезапно загорелся чудовищный цветок роскошной люстры. Свет брызнул и кинул в лица орущим и негодующим золотые сгустки Ксеньиных спутанных волос и яркие монеты глаз.
Один крик висел в воздухе: «Зачем?!.. Зачем?!.. Зачем?!..»
Ее схватили за плечи, затрясли. Затряслась и голова у нее в руке.
— Затем, — разлепила Ксения губы.
Воцарилась душная тишина. Народ перестал орать и метаться. В наступившей тишине голос Ксении резко раздавался и отливал металлом.
— Вот видите, что баба сделала. Одна баба, — слова из Ксеньиного рта падали, как камни. — Одна баба. Жалкая. Слабая. Дура баба. Трусливая. Одинокая баба. Не вы! — Обвела глазами, выцветшими до бешеной светлоты, публику. — Не целая страна. Не огромный народ. Не толпа заговощиков. Не революция. Не война. А баба. Просто баба. Баба с топором.
Передохнула. Все молчали. Под ногами Ксении разливалась темная сливовая кровь.
— Вяжите меня!.. Не можете?!..
Под ноги Ксении метнулась маленькая девочка с живой, громко закрякавшей уткой в руках. Мужик в кружевных манжетах зажал утке клюв кулаком.
— А серьги у нее — ух, красивые были… Изумрудные!.. — горько вскрикнула Ксения и заплакала, и отрубленная голова выпала из ее кулака с гремучим стуком и покатилась по полу.
И утка вырвалась из девчонкиных рук и стала бегать и летать по комнате, и крякать безумно, сумасшедше, и ропот поднялся в толпе, и все решили, и поодиночке и скопом, что да, конечно, она сумасшедшая, эта перепачканая кровью рослая женщина, что если это она отрубила тирану голову, то сделала это наверняка во сне или в придури своей, и что больных не трогают, а скорей всего, еще одна баба тут замешана, иначе к чему болтовня про изумрудные сережки, или это пьяный бред, но ведь от нее не пахнет ни вином, ни водкою, и, пока все так гудели и переминались с ноги на ногу, порешили ее, Ксению, отпустить — тою дорогой, какой она сюда пришла. Ей закричали: «Иди! Иди отсюда!» — но еще долго стояла она над ворчащей толпой, обсуждавшей ее и указывающей на нее пальцами, как на редкое, диковинное и страшное животное, стояла и обводила сияющими правдой и победой глазами диких и непонятных ей людей, и каждый в толпе был ей родной и понятный, и каждого она могла и хотела пожалеть и согреть, а вместе, стадом и кучей, они пугали ее и гнали: «Иди! Иди же, тебе говорят!.. Пока гонят тебя — иди!..» И когда она решилась и пошла, то люди расступились перед ней, образовав два шевелящихся головами и телами берега пустоты, и в пустоте шла она к двери по анфиладам, шла к выходу, шла на волю.
Она шла на волю, потому что воля была ее, а она принадлежала воле, и за ней по всем спящим анфиладам тиранова дворца шла маленькая девочкина утка, шла вперевалку, взмахивая пестрыми крыльями и резко крякая.
И так они вышли вместе, вдвоем, в свежую и снежную зимнюю ночь — женщина и птица. Ксения взяла утку на руки и прижала к груди. Происшедшее показалось ей сном, но это была правда, и Ксения печально подумала о том, что вот, где теперь она отстирает красные пятна, впитавшиеся в ее подол, где ей найти приют, где будет ее ложе в виде подстилки, таз, чтобы умыть унизанное холодным потом лицо и отстирать кровавый испод рубища. Теперь их стало двое — она и утка, и Ксения поняла, что вот едят птицу люди, а у нее появился друг; и как же она может его съесть? Даже умирающий от голода человек друга своего не съест, на то он и тварь, созданная по образу и подобию Божию; а им что в пропитание и на счастье эта ночь пошлет?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу