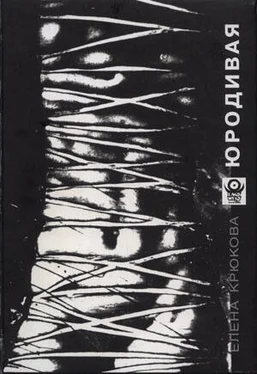И когда мы понимаем, что вот она —
ВЕЧНОСТЬ —
что кончилось
ВРЕМЯ —
что больше
НЕТ НИЧЕГО И НЕ БУДЕТ —
мы кричим тысячью птичьих глоток: будет! будет! будет! Не с нами, так с другими! Не в этом мире, так в другом! Если есть смерть и она такова, значит, есть и рождение снова!
И во тьме тем, сквозь звездные брызги, начинает биться и шевелиться комочек света. Маленький горящий клок. Уголек костра. Еле видный. Тусклый. Фосфоресцирующий. Жалкий. Он горит, тлеет… гаснет… разгорается вновь. Тьма смыкается над ним. Он прорезает ее. Он хочет родиться. Он жаждет и трепещет.
Но ему запрещают. Он во тьме. Он сам еще тьма. Тьма его мать. Есть ли путь для него из тьмы вон?!
Множество. Одиночество. Тьма.
… и последним усилием воли и памяти матери рождающей:
если я рожусь на белый свет опять когда-нибудь, Господи, сделай же так, чтобы я снова была сумасшедшей и шла босиком по обочине мира. Чтобы я пребыла и осталась свободной Ксенией — так, как свободен ветер, свободна метель, свободна тьма.
И пусть у меня будут крепкие ноги, чтоб я могла долго и без устали идти, пусть у меня будут ясные глаза, чтобы далеко видеть, пусть у меня будут густые длинные косы, чтоб укутаться ими в мороз, и пусть у меня снова будет огненное сердце, чтобы греть и кормить обиженных и оскорбленных, чтобы отапливать — пустые холодные дома, чтобы светить в темноте — заблудшим, чтобы обжигать — до крика — зарвавшихся и нечестивых, чтобы любить живых, чтобы воскрешать мертвых.
И чтобы Исса… увидел мой костер… издалека…
* * *
Круглая площадь серебрилась гладкой брусчаткой, чуть принакрытой тюлем нежного снега. Ночь опрокидывала над Армагеддоном бочку с дегтем. Кучно, один близко от другого, горели площадные военные костры.
Стояла тишина. Стрелявшие уснули — верно, дали себе передохнуть. У костров спали умаявшиеся солдаты, обняв винтовки, приклонившись головами в ушанках и треухах к пулеметам, обхватив капоты воняющих горючим машин. Длилась военная ночь, на изумление тихая. Не верилось, что мгновенья назад Армагеддон содрогался в разрывах и воплях. Сполохи костров освещали испитые, исстрадавшиеся солдатские лица. Люди устали воевать. Они устали жить внутри войны. Они хотели мира.
Они хотели мира навсегда. А не замирения на час или два.
Меж костров, шатаясь, как пьяная, ходила странная старуха.
Она была сплошь седая, белая, как лунь. Метельные космы свисали до щиколоток. Смуглое сморщенное лицо глядело печеным яблоком. На теле старухи, худом и костлявом, болтался то ли мешок, то ли сшитая двумя стежками старая рогожа, волочившаяся за ней по пятам, как шлейф за царицей. Время от времени она подходила к кострам ближе, наклонялась и заглядывала в лица спящим. Солдаты и ухом не вели — спали, и все тут. Спало все: и пули в барабанах, и пушки в чехлах, и нательные крестики за пазухами, и языки за зубами, привыкшие всю войну чертыхаться да сквернословить. Старуха поднимала руку, чтобы прикоснуться к спящему. Рука повисала в воздухе, как летящий снег. Не касалась дремлющих, храпящих, блаженно улыбающихся, сладко, по-детски, чмокающих. Застывала в благословляющем жесте.
Иногда старуха садилась перед костром на корточки. Совала в огонь руки, чтобы согреть. Смеялась, сощурив глаза; свистела веселую песенку в дыру меж зубов. Становилась похожей на пацана. Повернувшись щекой к пляшущему огню, внезапно, на секунду, становилась до боли красивой и молодой — волна серебряных волос мгновенно отливала червонным золотом, разбеги морщин превращались в таинственные тени, глаза из-под полузакрытых век блестели дикой синевой. Она неотрывно, как полярная сова, глядела в огонь. Вздыхала. Поднималась. Шла дальше. Огни освещали ее путь. Пахло паленым: старуха, не замечая, подпаливала близ костров свою ветхую рогожу. Иногда, всмотревшись в лицо спящего солдата, она хотела разбудить его, трясла, тормошила. Напрасно. Солдаты, согревшись, хлебнув после боя знаменитой армагеддонской водки, на морозе у костров спали крепко, и им снились сны. Махнув рукой, старуха отходила прочь. Иной раз она останавливалась и так долго, без движения, стояла, как цапля или журавль или птица марабу из жарких стран. Она думала о своем. Лоб ее уродовался извивами новых мучительных морщин; они ходили по лбу, как волны, и старуха часто проводила по челу рукою, чтобы стряхнуть их, как стряхивают бисер пота.
Так она ходила между спящих всю ночь.
Никто в Армагеддоне не знал, кто она такая, откуда пришла. Кто говорил — жила здесь когда-то, давно. Потом исчезла: то ли сослали, то ли изуродовали, и всю жизнь по частям сшивали и ремонтировали, и оживили лишь под старость лет. Кто шептал: она колдунья, она наслала Зимнюю Войну, из-за нее Война началась. Якобы она была красива, как царица, да не сумела, дура, распорядиться своей красотой: так и загинула в безвестии и нищете. Кто пожимал плечами: ходят по развалинам бродяжки, еду ищут, намозолили глаза. Жалко их, а чем помочь?.. Их уже Бог берет под крыло, не люди. Тишина обнимает. Ангелы черствую корку бросают с небес.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу