Среди свежих, ещё пачкающихся типографской краской газет я обнаружил заказное письмо от Елены Викентьевны Онучиной-Ферман: рядом с моей каллиграфически выведенной фамилией в скобках значилось «лично». Я торопился на встречу с Челышевым и читать письмо на бегу не стал.
На автобусной остановке собралась толпа, люди тратили бесценную трудовую энергию, штурмуя узкие двери муниципального транспорта. В автобус я попал только благодаря тому, что разбитной мужичок, прощально затянувшись сигаретой, весело попросил граждан пассажиров сделать глубокий выдох. В конце концов место нашлось всем и, надёжно стиснутый попутчиками, я поехал к метро. Можно было бы говорить о небывалой сплочённости, даже спрессованности нашего недолговечного пассажирского коллектива, если б не скандал, разгоревшийся в душной утробе автобуса, которую немногословный водитель романтично именовал «салоном».
Квадратный пожилой дядя проторил путь к сиденьям для инвалидов с детьми и потребовал, чтобы щуплый парень, почти мальчишка, очистил посадочное место согласно правилам поведения в городском транспорте. Сидящий не отрывался от газеты и являл пример мучительного спокойствия.
– Ухом не ведёт, хамло!..
– Встань, тебе говорят!
– Мы его сейчас поднимем! – сопереживал пассажирский коллектив.
– Я – фронтовик! Я за него, сосунка, кровь проливал! – гневался полнокровный ветеран, и его лицо набухало праведной лиловостью.
– И я – фронтовик! – зло ответил парень и начал комкать газету.
– Ещё издевается!
– Высадить его к чёртовой матери!
– Шпана! – шумело общество попутчиков.
– У меня два ранения! – хлопнул себя по бокам участник войны.
– А у меня ноги нет! – сидящий поднял на нас бессмысленные от ненависти глаза.
– Совести у тебя нет!
– Погодите, ребята, может, он из Афгана?!
– Удостоверение покажи! – зашумели вокруг.
– Нате, смотрите! – крикнул парень и вырвал из нагрудного кармана обёрнутую целлофаном книжечку.
– Садись, деловой! – какая-то женщина освободила ветерану место, переместив две здоровенные хозяйственные сумки, совершенно необъяснимые в такую раннюю, домагазинную пору. – В очередях из-за них не достоишься! Фронтовик!..
– Как вы можете так говорить! – вскинулась молоденькая пассажирка. – Как вам не стыдно!
Пожилой, добившись своего, тяжело сопя, уселся, установил на коленях обшарпанный чемоданчик и уткнулся в окно, а коллектив тем временем переключился на женщину с сумками.
– Весь универсам скупила! Житья от этих приезжих не стало! После работы идёшь – прилавки пустые…
Ветеран понуро глядел сквозь стекло, потом обернулся и проговорил:
– Извини, молодой человек, я не знал…
– Ладно, – отходчиво сказал парень. – Почти каждый день привязываются… Привык…
В метро я смог наконец разорвать конверт и прочитать письмо:
Уважаемый Андрей Михайлович!
Наверное, Вас удивила приписка «лично». Дело в том, что я сначала вообще полагала обойтись без этих тяжких подробностей, не хотела омрачать Вашу радостную цель и рассказывать о том зле, с которым новые поколения (верю!) никогда не столкнутся. Я пишу Вам лично, потому что Вы – педагог, воспитатель, и обязаны знать все без утайки.
Роман Коли Пустырева Вы не найдёте никогда, он сам, своими руками в моем присутствии сжёг рукописи, оба экземпляра. Николая оклеветали. Один негодяй (он уже умер, и я не хочу повторять его чёрного имени) написал донос, в котором называл Колин роман «поклёпом» на нашу действительность, на нашу жизнь, становившуюся все лучше и веселей. Особенно больно то, что я оказалась невольной причиной этой подлости: мы были очень близки с Николаем Ивановичем, а тот негодяй надеялся избавиться от соперника. Потом, много лет спустя, он объяснял свою «роковую ошибку» политической близорукостью и безумной любовью ко мне. Кровь леденеет, когда понимаешь, от каких ничтожеств порой зависит судьба талантливого и поэтому беззащитного человека.
Колю уволили из школы, исключили из комсомола, а после разговора со следователем он сжёг рукопись, искренне считая, что роман был ошибкой. Когда Колю записали в ополчение, он радовался и считал, что его простили и дали право искупить вину на поле боя. Теперь наша мудрая партия жёстко осудила тогдашние перегибы, и мы понимаем: никакой ошибки не было. Останься Коля в живых, он бы обязательно восстановил своё произведение: память у него была блестящая…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



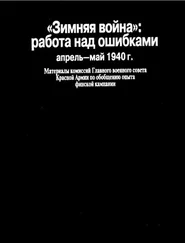
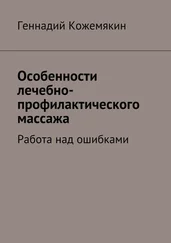
![Елена Вилар - Крёстные. Работа над ошибками [СИ]](/books/432131/elena-vilar-krestnye-rabota-nad-oshibkami-si-thumb.webp)
![Марина Дяченко - Vita Nostra. Работа над ошибками [litres с оптимизированной обложкой]](/books/434876/marina-dyachenko-vita-nostra-rabota-nad-oshibkami-thumb.webp)



