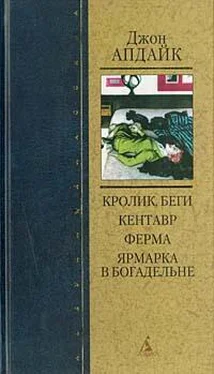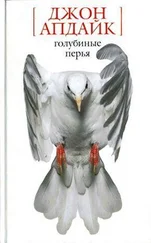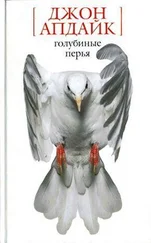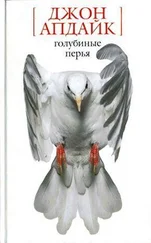— Какое желание вы ему помогли осуществить? Он дал вам Джоя и ферму; а что вы ему дали? — Тон был самый вежливый, но из-под век, еще по городскому оттененных зеленой тушью, смотрели зловеще усталые глаза.
Сердце во мне упало; пальцы, сжимавшие холодную ножку бокала, налились жаром и словно распухли. Меня всегда страшили паузы в речи матери — долгие паузы, когда ее душа покидала глаза и язык и ныряла в безмолвие, в глухой мрак, где я был бы погребен нерожденным, если б она не сжалилась надо мной.
— Как что? — наконец произнесла она, широко разведя руками. — А свободу?
В этом ответе, этой отважной попытке оправдать свое супружество ожил весь былой ум матери, и я с испугом увидел, что Пегги смутилась. У нее упрямо отвердел подбородок, и я почувствовал ее внутренний протест против сложного сплетения натяжек и допущений, куда так гармонично вписалось слово «свобода» в качестве обозначения той тревожной смятенности, что постоянно томила моего отца; такой же протест вызвало бы у нее желание пригнать по ней платье с чужого плеча. Моя мать в мифах, творимых из собственной жизни, похожа была на математика, который, приняв за исходную точку некое строго ограниченное предположение, изощряется в таких кульбитах и экивоках мысли, в установлении таких парадоксальных зависимостей, что человеку со стороны, свободному от пут его логики, все это не может не показаться досужим умствованием. А для нее после смерти моего отца и после того, как я разошелся с Джоан, никого не осталось «не со стороны» — никого, кроме меня, да еще обожающих ее собак.
Пегги резко спросила:
— Разве свобода — вещь, которую можно дать кому— то?
Ее явно злило, что мать изображает как свой великодушный дар отцу неудачу, которую потерпела, так и не сумев завладеть всем его существом. У Пегги тоже была своя мифология: женщина отдает мужчине себя, а мужчина взамен дает ей цель жизни, — и мать сейчас больно задела непрочную основу, на которой эта мифология держалась.
Матери угодно было истолковать ее вопрос в ином, религиозном смысле.
— Я думаю, на самом деле свободу дает только бог, — сказала она. — Но человек властен отнять ее, и если он не отнимает, то это почти все равно что дать.
А потом ее речь плавно потекла дальше, как ручей, забурливший было у торчащей со дна коряги; воспоминания о покупке фермы перешли в воспоминания о самой ферме, о том, какой они ее вновь получили — все запущено, земля разъедена эрозией — и какой она была раньше, в девичьи годы матери, когда большое верхнее поле простиралось ячменным океаном, а на маленьком верхнем поле тянулись ровные грядки помидоров, а на треугольной делянке напротив луга, отливая золотом, зеленела кукуруза, а на дальнем клину, отливая серебром, зеленела люцерна, а огород с картошкой, и луком, и капустой, и штамбовым горохом пролег вдоль песчаного гребня за фруктовым садом, где груши и яблони опирались на костыли подпорок обвисшими от тяжести ветвями, и даже рощи таили изобилие — изобилие ягод, и орехов, и хвороста; а теперь вот земля отдыхает, поля заросли травой и ждут покоса. Тут наконец разговор обрел твердую почву: из-за покоса я и приехал, потому что матери уже не под силу было водить трактор. А если не будут скошены трава и сорняки, ее оштрафуют. О нашем приезде мы с ней долго и осторожно сговаривались по телефону, стараясь расслышать друг друга в гуле междугородных переговоров со всего штата, пока наконец каждому не сделалось ясно, чего именно от него хочет другой: я должен был скосить траву, а она — поближе познакомиться с Пегги, моей женой, лучше узнать ее и, если удастся, полюбить.
Пегги спала. Под мерную речь матери мою широкобедрую, тяжеловекую жену сморил сон. Она лежала, забывшись в обветшалых объятиях нашего старого рыже-красного вольтеровского кресла, в котором когда-то любил восседать мой дед. Остроносые желтые туфли на высоких каблуках лежали рядом, словно свалились при внезапном толчке. Ступни с длинными пальцами, просвечивавшими сквозь дымчатый нейлон, свесились до полу, продолжая поворот длинных ног, коленями упиравшихся в один из подлокотников кресла. Из-под завернувшейся юбки выглядывал темный край чулка. Покрытые пушком и веснушками руки лежали на коленях крест-накрест, одна полураскрытой ладонью вверх, к лампе, так что видны были голубые жилки на внутренней стороне запястья; лицо, прильнувшее к рыже-красной обивке, было в тени, а длинные волосы, вытолкнув шпильки, неподвижно струились вдоль белой шеи и покорного изгиба спины. Кресло было переполнено ею, и я с гордостью посмотрел на мать: как будто, слушая ее рассказы о ферме, я в то же время без слов демонстрировал ей свое достояние, то, что мне удалось урвать в этом мире. Но мать, ненадолго задержав взгляд на длинной женской фигуре, по-детски доверчиво свернувшейся во сне, вновь устремила его на меня, и в этом взгляде была обида. Боясь, как бы она не сказала что-нибудь унизительное для нас обоих, я нетерпеливо спросил:
Читать дальше