У меня однажды Чернов спросил:
— И вы никогда не говорите неправды?
— Теперь никогда, — ответил я.
И после мне было стыдно от этой лжи. Я готовил себя к уничтожению моего тайного пласта. И чувствовал, что не могу это сделать. Я тысячами нитей был связан с этим пластом. Он входил в мою кровь, в мои суставы, в мозг, в мышцы. Все мое «я», моя душа, тело, моя идеология не желали знать прошлого, связанного с отцом.
Один факт меня совершенно сбил с толку. Мне рассказали, что Валерка Чернов сказал вгорячах Надбавцеву:
— Ах ты каторжная душа!
Может быть, Валерка и не имел в виду то, что отец Саши Надбавцева был сослан в эти края вместе с семьей. Может быть, он просто так, для красного словца это сказал. Только Саша воспринял это оскорбление болезненно. Он кинулся на обидчика с кулаками, и с ним случился обморок, отчего все в классе были страшно напуганы.
Я стал готовиться к разговору с ребятами. Мне нужно было разрешить застрявшее во мне противоречие. Думаю, что это была одна из причин того, что я в одну бессонную, ночь написал о ребячьем конфликте что-то вроде рассказа под названием «Несостоявшееся убийство». Как только я в этом рассказе проговорил для себя вслух мою подноготную, так мне сразу стало легче. Я был почти готов к самому трудному разговору с детьми. Но тут случилась новая беда. Совершенно непоправимая. Перед этой бедой бледнели все прочие мои тревоги. Моя бедная мама, должно быть, тронулась в уме. Я в последние дни замечал её подозрительно косивший взгляд. В этом взгляде была какая-то растерянная враждебность, враждебность, смешанная с улыбкой, с ожиданием разрядки. Но не придавал этим переменам особого значения. Но вдруг, когда я однажды обнаружил, что в моем столе не оказалось моих записок, в том числе и этого последнего рассказа, я стиснув зубы подошел к маме. То, что произошло с мамой, ошеломило меня. Она заплакала, закричала:
— Сыночек, не бей меня! Я отнесла бумаги…
— Куда?
Мама как-то вся сжалась, глаза её были совсем безумными, остатки растерянной улыбки с размытыми тенями скользили по лицу.
— Сыночек, я хотела как лучше! Не проклинай меня, сыночек! Ой, что я наделала!!! Прости меня, господи!
— Куда ты отнесла бумаги? — закричал я в бешенстве.
— Сам знаешь куда!
В бессилии я опустился на стул. Мама сидела в уголочке и тихонько. плакала, и мне её стало нестерпимо жалко. А еще через несколько минут она уже улыбалась и даже бросила мне фразу:
— Может быть, и к лучшему!
Эта фраза вывела меня из себя, я грохнул кулаком по столу, слетела чашка, и мама кинулась собирать осколки:
— Такую чашечку разбил. Такую чашечку…
— Да плевать мне на твои чашечки! — орал я. — "Надо же сделать такое! Собственного сына заложить!
— Там разберутся! — И мама вдруг рассмеялась, и от этого смеха я едва не лишился рассудка.
— Ты пойми! Там все неправда. Там ложь, это же мое сочинительство! — говорил я.
— Разберутся, — отвечала мама. (Потом, много лет спустя, мне кто-то из врачей скажет: это начался распад личности, её страхи, какие копились долгие годы, переиначились в ней, перекрутились и вышли наружу таким образом.)
— Ты с ума сошла! — орал я, не зная, как понять все, что произошло.
— Не сошла! Не думай, что ты один умный. Я тоже многое понимаю. Недаром люди говорят…
— Что люди говорят? С кем ты ещё болтаешь обо мне?
— Здорово ты мне нужен, чтобы я о тебе болтала. Я прочитала твои глупости. Зачем ты пишешь всякое вранье?….
— Кому ты отдала мои бумаги?!
— Кому следует.
— Говори! — приблизился я к ней.
— Люди! — заорала она не своим голосом…
Я схватил пальто и выбежал на улицу. Стал припоминать содержание моего рассказа. Все, кроме этого рассказа, не представляло опасности. В статьях и в педагогических заметках была самая что ни на есть лояльная и государственная аргументация, так что опасаться чего-либо не приходилось. Там тоже была ложь. Крикливая. Экстремистская: «Я сделаю! Я добьюсь! Я перестрою!» И ссылки на классиков, на основоположников, точно они мои ровесники. Этак запросто: «Маркс сказал, Энгельс сказал: человек сам творит свое воспитание, свою судьбу и даже- историю». Патриотизм и есть творчество человеческих судеб, судеб страны, когда не утрачивается связь с прошлым. С самым лучшим, что было в прошлом. Где же еще черпать силы духа, как не в истории? Неколебимость — где еще найдешь такую неколебимость, верность идее, какую я отыскал в Аввакуме, Пушкине, Достоевском, Чернышевском, Добролюбове, Ушинском. Оттого и стыд жег меня изнутри. Стыд перед прошлым. Стыд за мой тайный обман.
Читать дальше
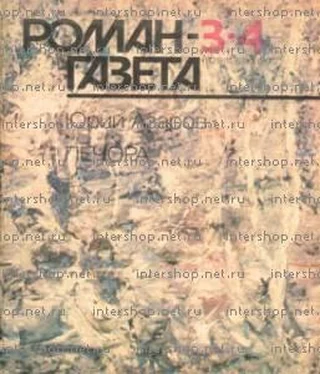
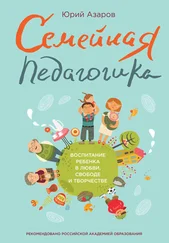



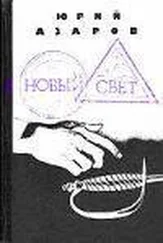
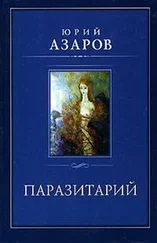
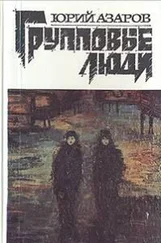

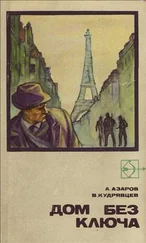
![Евгений Синтезов - Судьба Еросы из «Клана Печора» [SelfPub, 16+]](/books/419217/evgenij-sintezov-sudba-erosy-iz-klana-pechora-s-thumb.webp)
