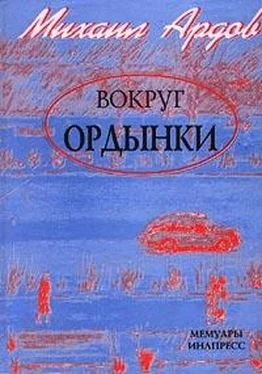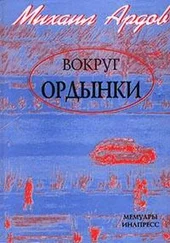Так, кусок подадут, а ночевать не пустят. А Тятя всех пускал. У нас и цыгане ночевали. И не воровали ничего никогда. Было раз, я шла, смотрю, а нищий забрел в наш гуменник и овес щекотит себе в мешок. Я пошла Тяте и сказала. А он: «Ну и чего там. Много ли он ошелушит? Поди два снопа, не больше. У нас не убудет. Не обедняем». Было, татары по миру ездили на лошадях, бедные.
Тоже у нас ночевали. Был у нас дедушка Митрий нищий. Об ем даже ругалися. Вот он к нам пришел. Выпарился в печке, Мама ему собрала — он болел. Вот и лежи, дедушка. А Алексей Иванович, покойник, Серов, он вот как Тятя, все с нищими. Наши-то уехали, я не знаю, куда они уехали, а Алексей Иванович пришел да и увел дедушку Митрия к себе. Ой, Тятя пришел — расстроился. Что же это? А потом помирились они: «Полно, вместе будем хоронить».
Вместе с Алексеем Ивановичем и хоронили, верно, что вместе. Ну, ведь не такие похороны, как теперь, что надо вина ящики… У нас как ночуют, все в печке парятся. Старухи приходят, усталые: «Как я и устала». — «Печку сберу, — Мама скажет. — Полезай в печку, попарься».
Полезут, попарятся, и хорошо. Утром встанет «Я и отдохнула, и все у меня прошло даже». А милостыньку нищие продавали. Сбирали куски-то. Насбирает он в корзину. Бывало, Флегон… Он к нам придет в калошах, рубашка ластиковая и часы: «Дяденька Николай!» — «О, Флегушка пришел!» — «Пришел, пришел. Возьмешь куски?» — «Да возьму. Ваганко уж ждет». Это лошадь у нас.
«Тридцать копеек корзина». Ну, копейка фунт был. Милостынька… Выкладывает все, садится чай пить. «Мне покрепче». Чаек любил. А вина не пил, нет. А чаек уж пьет он… А то еще Пашакороль был. Это — блаженный. Этого все уважали. Он такой был — ради Бога. Он меня любил, и я его без ума любила. Идет: «Сашенько-о!» А я ползаю. Я с повита упала и долго потом ходить не могла, все ползла. Скажет: «Милая моя. Все ползаешь? Поди-ка и жопенку занозила?» Этот полезет в печку париться, да и меня парит. Выпарит, эдакую связку кренделей принесет, на меня наденет. Как бусы. Много у нас ночевали, ходили. Потом какой-то Алексаша ходил.
Этот еще много предсказывал. Тяте всю жизнь сказал. До капли… Идет: «Ну, Миколушка, — он так Тятю звал, — я пришел». — «Вот и хорошо, что пришел. Раздевайся». У нас Тятя вообще бедных жалел. У нас рядом сироты жили — три брата да сестра. Придут к нам. А тут же дядя родной богатый жил. К нему никогда не ходили, к нам придут: «Дядя Миколай, дай мерочку овса». Тятя скажет: «А чего ты с мерой-то будешь делать?» — «Да хоть полоску посеять». — «Нечего тут с мерой делать. Голован, пойди насыпь им из большого засека, это семенной-то».
Насыплем им мешок. А осенью придет который-нибудь помочь нам молотить рожь. А то еще дедушка Алексий с бабушкой Катериной у нас на задах жили. Это пастух был. Он женился в нашей деревне. И брат у бабушки богатый был — Мохов. У нас только у четверых столько земли было.
Потому что одиночки. Землю-то делили на каждого брата. А у нас — одиночки. И вот дедушка Алексий взял евонную сестру Катерину. А ведь раньше болезнь катарак не признавали. А у нее катарак, и на оба глаза. Она чуть-чуть вот только солнышко видела. Ослепла. У нее двое деток — обедняли. Он стал пасти. Земли нет, а надо ему поставить келью, домик. А раньше землей-то как дорожили! Чтобы лишнюю охапку сена-то не потерять… Гребнев пустил его пожить. Эту келью поставили ему. Дедушка Иван Гребнев. А потом: «Нет. Вот ходит тропа… И на тропе никакая трава не растет. Да и келья. Нет. Убирай келью!»
Тятя приходит со сходу: «Мать, дедушку Алексия дедушка Иван прогоняет. Куда его? Не пустить ли к нам?» — «А вот у нас огород-то… Вот тут отгородим. Вот и ходят пускай… Да и грядки пускай тут вскопает». Тятя пошел: «Давай к нам в огород». — «Ой!» — в ноги повалился. — «Не надо, не надо».
Тут поставили евонную келью, отгородили ему. Канаву Тятя прокопал, чтоб вода стекала. У нас они и жили до конца. И он все пас, он всю жизнь пас. Как ослепла бабушка Катерина, он все пас. А сыновья по работникам. Степанушко у нас жил три года, пока мы с Галинкой маленькие были.
Он непохоже, что у нас и работник был. Он начнет командовать. Нам достанется, еще и набьет.
Ему Тятя так и наказывал, как куда пойдет: «Ты, Степанушко, им не давай воли».
Он и командует. Он шестнадцати годов к нам пришел и жил до самого призыва. А уходить — так ревел. Последнюю зиму ревел. Тятя говорит: «Ну, Степанушко, теперь у нас уж девки подросли, справимся». Сидит да ревет. Тятя говорит «Ну, что сделать, уж коль так?
Оставайся, живи уж.
Читать дальше