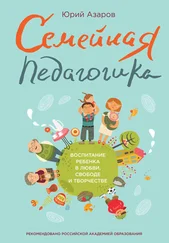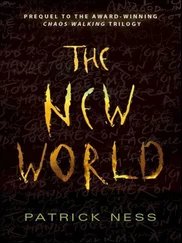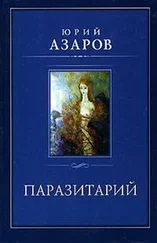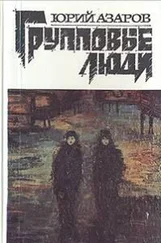— А шо це таке — поставить воровство на промышленную основу? — спрашивал Гриша Злыдень.
— Это значит сделать его механизированным, комплексным, — отвечал Сашко.
— А як це?
— А чтоб тянуть в комплекте. Не по отдельности, как до революции, скажем, стащил одне порося — и все. А зараз щоб и корм в придачу, и кирпич, чтобы для порося построить сарайку, и оти шпаги чертовы, яки Смола понакупив.
— А шпаги на що? — удивлялся Злыдень.
— А чим колоть кабана? Это раньше ножами ризалы, а зараз тах-тах шпагой — и нема борова.
— Ох, и доболтаешься ты, Сашко! — смеялся Злыдень.
Неблагодарный Сашко (Шаров ему и машину шпал отвез, и шкуры двух телят подарил, и повысил ставку на пятнадцать рублей) везде о Шарове распускал слухи, зубоскаля и закручивая петлю вокруг всех шаровских недобрых дел. В эти предновогодние дни Сашко рисовал с детьми огромные красочные плакаты. Он подводил нас к ним, показывая нарисованного медведя:
— Это Шаров проверяет санитарное состояние столовой.
— А чего у него курица под мышкой? — спрашивал Дятел.
— А курица — это как второй завтрак. Бачите, за елками фигура, это Каменюка побежал погреб открывать.
Сашко успевал повсюду. И ребятишкам уделял внимание. Славке и Почечкину успел бороды приклеить каким-то авиационным клеем, и они не могли их оторвать.
— А может быть, и не надо отклеивать? — спрашивал Александр Иванович у ребят. — Как раз до свадьбы можно и походить.
— Мне на дежурство идти. Я командир сводного отряда, — говорил Слава.
— Так оно ж и хорошо. Ты вроде бы как из партизан. А то что за командиры, которые без усов и без бороды…
В этот самый момент и позвали Славку к директору. Сказали:
— Срочно!
Шаров сидел в сумеречной комнате. На дворе было уже темно, а свет в кабинете не зажигали. Славка, прикрывая бороду рукой, вошел в кабинет.
— Это еще что такое? — тихо спросил Шаров.
— Не отклеивается, — ответил Слава.
— Иди сюда, Славка, — сказал Шаров, и на его душе стало теплее. От прикосновения к чужому горю Шаров просветлел. Ему захотелось вдруг пожалеть Славку, соединиться с его бедой, раствориться в Славкиных слезах, обратиться в бегство к своему прошлому, плюхнуться в него, зарыться в материнских теплых одеждах, закричать: «Мама, мамочка! Все надоело, устал я, потому что никакой благодарности за то добро, какое я сею, нету мне! Вором обозвали, осмеяли, мамочка!» Шаров обнял Славку:
— Крепись, Славка, нет у тебя больше мамки.
Славка поднял голову, посмотрел на директора и затих.
Мать всегда для Славки была чужим человеком. Человеком, который предал его. Он стыдился матери. Стыдился всегда. И тогда, когда жил с нею и с полоумным дедом Арсением, который с утра до вечера сидел на печке и повторял одни и те же слова: «Беда, беда». Стыдился Славка своей матери и тогда, когда на стеклотарный склад ходил, где мать работала грузчицей и сторожихой, где она напивалась и буянила. Стыдился и тогда, когда мать его приласкать пыталась, когда, приезжая в школу, вытаскивала и подавала ему пирожное да кулечек с конфетами.
А теперь он не знал, что ему сказать, как ему отреагировать на то, что сказал директор. И если бы Шаров не обнял Славу, если бы он его вот так запросто не пожалел, может быть, и не покатились бы слезы по его щекам. Славка плакал, и непонятно было ему, кого он больше жалел — мать или себя. Скорее себя, потому что теперь он был совсем один на этом свете, если не считать полоумного деда Арсения. И Шарову непонятно было, кого он жалел в эту минуту — Славку или себя, вот так покинутого всеми. «Все откажутся, когда за задницу возьмут, — думал он. — Все бросят меня на произвол судьбы. Всех обеспечил необходимым, вопреки законности дома и сараи выстроил, зарплату повысил, за питание копейки высчитывал, а теперь все на меня одного повалят!»- И так Шарову захотелось вместе со Славкой заплакать, и так захотелось куда-нибудь уйти, уехать, чтобы не видеть этого ликующего интернатского веселья, не слышать этого зубоскальства, этого безразличия к его судьбе.
— Так ты в Затопной живешь? — спросил Шаров. — Недалеко от тебя и брат мой Жорка живет.
— Знаю, — сказал Славка.
— Ну вот что, не плачь! — приказал Шаров. — Будем держаться, Слава! Иди собирайся — поедем мать хоронить.
Может быть, решение Шарова ехать на похороны я и посчитал бы каким-то очередным безрассудством, если бы он не подал мне свое это решение особым образом, если бы не пробивалась сквозь темноту и мрак его могучая просветленность. Может быть, я не поехал бы, сославшись на праздник, на головную боль, на еще черт знает что. Но Шаров искал в своем горестном обновлении союзника. Первое, что он сделал, когда я вошел к нему, — закрыл дверь на замок и налил мне полстакана спирта:
Читать дальше