Верочка стала поить нас чаем, понимая, что «другого» нам уже хватит, и рассказывала всякие сплетни, в том числе и про радио «Тамару», который сегодня выдал…
– Нет, вы не представляете, как вы думаете, что? – И Верочка торжественно преподнесла: – Он прочитал длинное послание к своей Тамаре! Влипнет со своими посланиями, вот увидите!
– Как это мы увидим? – спросил Горяев, которому вдруг захотелось перечить.
– Ну, услышим.
– А это, ну, послание, в стихах?
– Обязательно в стихах, что ли? – возразила Верочка. – Ты мне вон тоже заливаешь, я и без стихов верю, как дура какая.
– Ну, не такая уж ты дура! – Горяев стал при мне обнимать Верочку, а я заторопился домой. Они пошли меня проводить до станции, а дорогой снова поспорили насчет «Тамары», и Верочка вдруг сказала:
– А мне почему-то стало его сегодня жалко.
– Из-за неразделенной любви? – усмехнулся Горяев, явно уязвленный.
– Сама не знаю почему. На него прямо облава какая-то ведется. Неужто любовь превыше свободы? Ведь его посадят, правда?
– Правда, – кивнул Горяев. – За такие штучки по головке не гладят.
– Но так же нельзя! – воскликнула Вера. – Судить человека за любовь!
– Но его пока никто не судит.
– Судят, судят… Еще как, сегодня с вертолета искали.
– Кто сказал?
– А чего говорить! Как он включился, так и залетали. Тоже мне нашли шпиёна!
– А меня как судили? – спросил Горяев.
– Ну, тебя хоть за дело! – отмахнулась Верочка.
– Да все мое дело, что доверился бабе… Кстати, тоже Тамарой звали, документы ей перепечатать отдал… А они, черт возьми, секретные, кто-то взял и донес… И это дело?
– Конечно, дело, – сказала Верочка. – А кстати, ты мне об этой Тамаре не рассказывал, ты что, с ней жил?
– Опять – двадцать пять! – вздохнул притворно Горяев. – Да говорил же я тебе, не было там романа. Так, по пьянке разок.
– Потом про меня скажешь? – И Верочка вдруг решила: – Знаешь, Горяев, не пойду я за тебя замуж, не надейся… «Я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты не рассчитывай», – это она из известной песенки Шульженко.
– Почему? – засмеялся Горяев. Но смеялся как-то натянуто.
– А потому, что ты развратный тип, соблазнитель и совратитель, вот кто ты, товарищ Горяев… Я найду себе такого, как этот радист! Или нет, нет! – с пафосом объявила она. – Я найду его самого, потому что эта дура Тамара не достойна его, вот что я скажу. А я умею любить, ты, Горяев, это знаешь. И хочу такой любви, как у него, – что, выкусил, товарищ Горяев?
– Желаю успеха, – сказал он. – Но я тебе секрет открою. Радиста такого нет.
– Как так нет? Не придумывай, Горяев, что это, фантом, что ли, передает пылкие объяснения, от которых другие бабы сохнут? А?
– Это привидение, – сказал Горяев. – Это человек-невидимка.
– Но чувства-то у него настоящие? Или как?
– Не знаю.
– Настоящие, Горяев, это я знаю. Потому что я баба. А у тебя, Горяев, непонятно какие, может, у тебя никаких чувств и нет, хотя сам ты – есть.
– Сам я есть, – подтвердил Горяев.
Тут подошла моя электричка. Я вскочил, сел у окошка и помахал им рукой. А они тихо пошли под руку, и по тому, как они шли, я видел их со спины, было ясно, что все Верочкины всхлипы по поводу неведомого радиста – это лишь страдания по самому Горяеву, который отчего-то на ней не женится, а жениться-то, наверное, ему надо. Я бы женился, если бы меня так любили. Хоть кто-нибудь. Хоть Алена.
Так я подумал тогда.
Это произошло в электричке, востроносенькая девушка с рыжеватой челочкой на лбу оставила на клочке бумаги свой адрес: «Задольск, улица Растунова, 2 – Алена».
Задольск от Москвы километров на десять дальше моей работы, но я решился и поехал, нашел улицу и дом, краснокирпичный, двухэтажный, позвонил не сразу, а потоптавшись на площадке от неожиданного вдруг страха, робости. Квартира состояла из трех комнат, и две из них занимала Алена с отцом, а в третьей жила дальняя родственница, старая бабка. Отец, специалист по строительству фабрик для обогащения руд, часто уезжал в командировки, его я так ни разу и не видел.
Квартира поразила меня непривычной роскошью: ковры – на стене и на полу, горка с красивой посудой, да и сама хозяйка, встретившая меня в домашнем ярко-розовом халате, в тапочках на босу ногу. Оценивающе, без стеснения оглядела меня, предложила снять обувь и повела в комнату, жалуясь на плохую погоду, на отопление, на дряхлую соседку и на котенка Архипа, который приноровился есть соленые огурцы. Мы пили чай и слушали пластинки, но чаще других ставила она Рахманинова, которого я и запомнил лишь потому, что был длинен, так длинен, что казался мне бесконечным, целый альбом из пяти, что ли, дисков; а она меняла пластинку за пластинкой, лишь из вежливости спрашивала каждый раз: «Ну, еще?» – предполагая, что я, конечно же, скажу: «Да, да!» И я именно это и говорил, мучаясь от собственной неполноценности.
Читать дальше
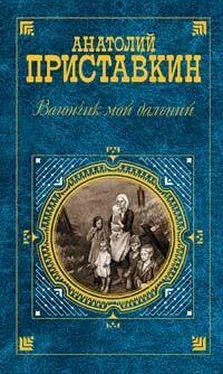


![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)

