Что же касается уединения, то в идеале каждый из нас, работников аэродрома, втайне мечтал попасть на бомбометательную площадку, огромный, принадлежащий нашему институту полигон в глуши под Рязанью, отгороженный от мира, а потому наиболее сохранившийся в своей заповедной неприкосновенности; никакие болванки, имитирующие бомбы, падающие сюда время от времени, не могли его повредить, даже потревожить, нарушить его цельность, как и помешать сбору ягод, или грибов, или цветов, не тронутых ни в какие времена не только человеческой рукой, но даже сторонним глазом. Правда, и не так далеко, а возле локаторов, на краю аэродрома, в прозрачно-золотом сосняке в летнюю пору некоторым из нас удавалось насобирать горсть-другую душно пахнущей земляники или десяток маслят!
Мой приятель, например, уверял, что однажды он исхитрился набрать шампиньонов под голубыми елками на Красной площади, вблизи Мавзолея и Кремлевской стены.
Может, он и загибал, никто бы его в те елочки не пустил, там под каждой из них то ли милиционер, то ли стукач или агент какой платный сидит и соглядатает из своего укрытия поведение простых советских рабочих у святого могильника Ильича или шпионит за иностранными туристами, беспечно разгуливающими в центре столицы мира. Но в своих мыслях я не отдалялся так далеко. Мой микромир – аэродром, муравьиная куча, с высоты полета мы напоминаем муравьишек, которые тащат какую-нибудь крылатость размером много больше их самих. Да, в общем, мы не так уж далеко ушли от своих малых братьев, которых цивилизация оттеснила с их тысячелетних мест обитания, а теперь сама и страдает, и мается, и погибает от нашествия всяких разных насекомых, жуков и мошек, которые одолели наши города, и не может понять, что они вернулись к себе, приспособившись к нам, проникли в наши жилища и захватывают то, что от сотворения всегда им по праву принадлежало.
Чем же был для нас аэродром, как не новой, грядущей цивилизацией, возникшей на костях наших предков, на их домах и огородах, и нетрудно вспомнить, что еще в недавние времена на месте взлетной полосы колосился хлеб и росла капуста с картошкой. А мы, несуразные потомки тех хлеборобов, освоились, и освоили, и приспособили для себя аэродром со всем, что ему принадлежит, мы и были муравьи в том общем историческом процессе, на фоне возводимых нами ангаров и сверкающей, гремящей своей мощью на всю вселенскую новой боевой техники. Мы проросли через самую крепкую нержавейку и дюралюминий, мы обогрели живым дыханием эту мертвую технику, обогатив ее тем, что живые, мы отдали ей часть нашей души и получили взамен прочные, надежные укрытия в ненастье и мороз… Мы научились гнать в своих бытовках дедовским примитивным способом зеленый самогончик, но, правда, не из домашней свеклы со своего огорода, а из гидравлики, добытой в тех же самолетах. И даже закусь была, потому что под боком странная установка испытывала остекленные части кабины при помощи особой пращи, которая швыряла с силой в стекло самых что ни на есть магазинных, а значит, дефицитных, потрошеных цыплят, они должны были имитировать столкновение птиц с самолетом в воздухе.
Правда, вид у них после таких ударов был уже не столь товарный, но в пищу (в нашу пищу!) они годились!
Здесь, при аэродроме, живут собаки и кошки… Вот сказал и вспомнил несчастную Дамку и одинокую Катьку в остылом доме! Может, зазря я не притащил их сюда?
Здесь можно насобирать цветов или устроить себе «загоральный» сезон, отдалившись за взлетную полосу, и здесь же наши мотористы в робах, пропахших маслами, с удовольствием трахают молоденьких лаборанточек, разложив прямо на зеленой травке или подстелив под задницу, чтобы не застудить, брезентовое покрытие от самолета!
Да и Горяев как-то поведал, что на взлете вдруг обнаружил в метре от шасси самолета, прямо на бетоне, слившуюся в экстазе парочку, напугаться, правда, он не успел, но машину чуть не угробил!
Радио во всех его видах было частью этой жизни, как и возникший из небытия радист «Тамара», пробивающийся с трудом в наши забетонированные, наглухо задраенные, как люки моей «крепости», мозги.
Но отчего я вдруг стал вспоминать, не ко времени будь сказано, пресловутую «Тамару», осознав лишь здесь, в укрытии, в отдалении от лаборатории и ее стукачей, что опосредованно, исподволь она проникла и стала влиять на всю мою жизнь через моих дружков, через любовь, а теперь и лабораторию, в которую отсюда, из чрева кита, никак не хотелось возвращаться!
Читать дальше
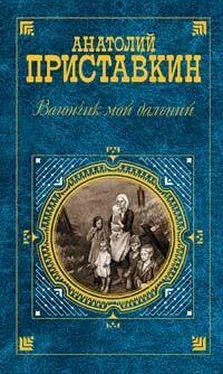


![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)

