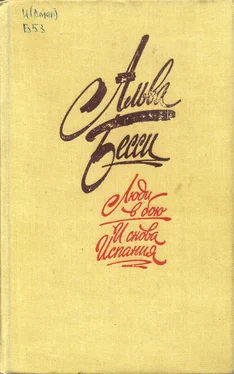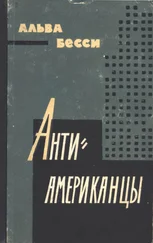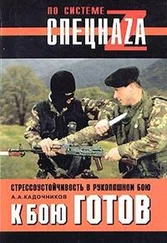— Связной! — слышу я голос Хэла. — Связной, куда к черту ты запропастился?..
* * *
…Батальон сворачивает с шоссе налево, выходит на грунтовую дорогу и располагается на привал. Бойцы падают кто где стоит и мигом засыпают. Табб лежит, обняв пулемет, как ребенок игрушку; когда я прохожу мимо, он окликает меня.
— Слышь, Бесс, — говорит он. — Чего бы тебе не пойти в наше пулеметное отделение?
— Я разведчик. Кто мне разрешит скакать с места на место?
— А какая разница, — говорит он. — Я при встрече скажу Дику, что прошу отдать тебя мне. Под мою ответственность.
Я понимаю, что ему нужен человек таскать боеприпасы, ну и пусть — все лучше, чем носиться сломя голову туда-сюда ночи напролет. К тому же разведчиков и так хватает — их человек шесть, не меньше, как-нибудь до утра обойдутся без меня.
— Идет, — говорю я.
Мы лежим на обочине в непроглядной тьме, накрывшись Таббовым пончо, и докуриваем по очереди окурок. Вокруг спят разведчики, пулеметчики; тихо, только вдалеке раздаётся глухой стрекот пулемета; темно, только вдалеке сверкают вспышки орудий, но эти вспышки не разгоняют темноту. Я чувствую: творится что-то неладное. Чувствую, мы отступаем. Чувствую: вот оно, повторяется то самое, что бригада уже раз пережила прямо перед тем, как мы в нее влились.
— Что происходит? — говорю я. — Куда мы идем?
— Не знаю. (Но я-то знаю, что мы с Таббом думаем об одном.)
— Мочи моей больше нет, — говорю я.
— Yo también [72] И моей тоже (исп.).
.
— Похоже, мы отступаем.
— Ерунда, — говорит Табб. (Но я знаю — он врет.)
Мы долго так лежим и, наверное, засыпаем, потому что нас одновременно будит голос Хэла:
— Нечего сказать, хороши разведчики. Батальон ушел без нас, вы отстали от своих.
Раздаются и другие голоса.
— Да как же так?
— Куда ушел батальон?
— Не было приказа.
— Ты нам говорил ждать здесь, вот мы и ждали.
— Кончайте, — говорит Хэл, идет в лачугу без крыши чуть поодаль от дороги и при тусклом свете карманного фонаря вместе с другими разведчиками изучает карту.
Они совещаются долго, но мы с Таббом настолько устали, что у нас нет сил пойти узнать, в чем дело. Услышав команду, мы просыпаемся, не торопясь встаем, плетемся за направляющими, Табб тащит диски, их раньше нес наш негр, Джонсон, я — пулемет. Мы рады, что нас ведут; мы не оспариваем приказов, не интересуемся, куда идем. Мы изо всех сил стараемся не отстать от Лука и Хэла — они уже свернули с грунтовой дороги в поле, взбегающее по холму. Вдали раздается канонада, мы еле волочим ноги, все мышцы ноют, мы то и дело зеваем, перекидываем груз с одного плеча на другое.
Так оно и есть, думаю я, все повторяется снова, а мне хоть бы хны. Мысль о том, что нас ждет, когда нашей ораве — в ней человек восемьдесят, не меньше, — придется прорываться через фашистские позиции, меня не волнует. Воображение ничего мне не подсказывает, ничего не рисует. Я только знаю, что каждый шаг, мешкотный, усталый, приближает нас к месту, где мы или одержим победу, или потерпим неудачу, и притом роковую. Джонсон берет у меня «Дегтярева», я иду следом за Таббом, впритык к нему, кряхчу, вздыхаю. Впереди Табба идет один товарищ, его здесь кличут Шведом (больше нам о нем ничего не известно), он спит на ходу, его поминутно заносит вправо, в сторону от нашего рассыпанного строя. И каждый раз Табб прибавляет шагу, хватает Шведа за руку и возвращает в строй. Швед ничего не говорит, но немного погодя снова упорно сворачивает вправо. Направляющие объявляют привал… Должно быть, совсем поздно; должно быть, скоро утро, а мы начали свой путь — шагали, плелись, останавливались, шагали и снова плелись — еще засветло. Сумка с тремя пулеметными дисками тяжело молотит меня по боку, то и дело съезжает на живот, приходится ежеминутно перетягивать лямку. Ремень винтовки врезается в плечо, оно все в синяках от давешней стрельбы. Джонсон куда-то запропастился, я окликал его час назад — безрезультатно, нет и Сида. Интересно, зачем нам диски, если у нас нет пулемета? Джонсон, наверное, рано или поздно объявится, а вот что делать, если пулемет потребуется нам сейчас…
Донимает собственный запах: чудно — днем, как ни потей, никогда не чувствуешь своего запаха, а вот ночью… Тут я замечаю, что иду, высунувши язык, и тихо смеюсь. Вспоминаю, если человек устал, вымотался, про него обычно говорят: «Прибежал, высунувши язык». Я считал, что это только так говорится, и вот тебе на — я и впрямь иду, высунувши язык. Я пытаюсь закрыть рот, но ничего не получается: оказывается, высунувши язык, идти легче. В уме вертится: далеко отсюда мой дом, хоть он скромен, мне славно в нем. Только он далеко-далеко, и мне так без него одиноко, далеко отсюда мой дом… Что поделывают там мои? — думаю я. Что, интересно, они там поделывают? У нас сейчас три, значит, у них десять, дети уже в постели, спят, а я не знаю, больны они или здоровы? Что поделывает она: сидит небось прихлебывает кофе, по вечерам она всегда пьет кофе — выкупает детей, уложит их в постель, а потом примет ванну, наденет пижаму в красный цветочек, свернется калачиком в кресле и читает книжку — слюнит пальцы, переворачивая страницы (меня эта привычка всегда бесила, сам не знаю почему), а может быть, она читает про войну в Испании, далеко отсюда мои дом, и когда же наконец они остановятся и дадут нам поспать…
Читать дальше