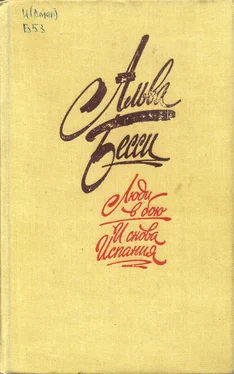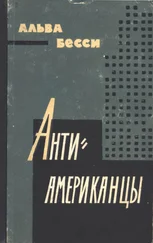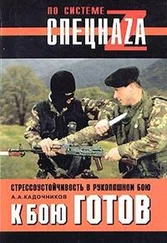Час за часом под ярким февральским солнцем наш поезд неспешно ползет по рельсам; нам уже наскучил вид из окон. Мы приходим к выводу, что поезд ползет медленно из соображений осторожности, а вовсе не потому, что не может идти быстрее. Так в случае воздушного налета он мигом остановится и мы, ничем не рискуя, выпрыгнем из окон. Мы несколько успокаиваемся, перестаем думать о воздушных налетах, сидим болтаем, поем песни. Мы поем «Интернационал», «Марсельезу», «Кейси Джонса», «Кто железную строил дорогу». Англичане поют свои песни, мы не разбираем их слов. Американцы изобретают забаву — вместе вспоминать слова старых песен, это помогает скоротать время. Мы поем «Рози О'Грейди», «Красное крылышко», «И каждое движение твое», «Велосипед для двоих», «Бауэри», «А мы все как один…» (что — как один? Танцуем рэгтайм), «Черные глаза» (почему вы такие голубые?), «Знаете ль вы Келли», «Америка», «Звездное знамя», «Поведай, красотка цыганка», «Когда в Нормандии весна и яблони цветут», «Когда в Скалистые весна приходит», «На родине моей», «Роза ничейной земли», «Типперэри» (вместе с англичанами), «Лотарингия, Лотарингия» (пре-е-екрасная моя Эльзас-Лотарингия), «Не дай остыть родному очагу», «Не для того сынка растила, чтоб он солдатом стал», «Там, вдали».
Мы то и дело останавливаемся в небольших городках, в каждом повторяется та же история. Когда поезд подходит к станции, все бросаются к окнам, высовываются чуть ли не по пояс. К перрону из города, с полей опрометью бегут взрослые, дети, они тащат корзины с апельсинами — крупными, сочными, крепкими апельсинами. Из окон кидают сигареты — английские, американские, французские, бельгийские и голландские; в ответ к нам летят один за другим апельсины. Мы поедаем апельсины, кожуру роняем на пол, бросаем в окна, швыряем в товарищей, прикорнувших на деревянных скамейках. Пальцы у нас желтые и липкие от сока, по отросшей щетине течет сок. Больше есть мы не в силах, оставшиеся апельсины мы закидываем на багажные полки, распихиваем по карманам. Вдоль рельсов километрами тянутся сады, их деревья гнутся под тяжестью золотящихся на солнце плодов. Кое-кто из нас прихватил с собой хлеб; ребятишки-охотятся за хлебом. «Pan, pan [36] Хлеба, хлеба (ucn.).
, пищат они. — Un poco de pan, camarada. Tienes pan!» [37] Кусочек хлеба, товарищ. Дай хлеба! (ucn.)
Им нечего предложить нам, кроме апельсинов, иногда кувшина с вином, но наши ребята щедро раздают им хлеб и сигареты. «Tienes tabaco por mi padre!» [38] Дай табаку для моего отца! (ucn.)
— просят ребятишки. Мы получили на дорогу по буханке хлеба, куску окаменелой колбасы и баночке солонины. Мы даем им табак для их отцов, бросаем в окна хлеб. Крохотные девчушки, женщины с печальными глазами подставляют передники; собрав хлеб, переходят к следующему вагону и, глядя на иностранцев, высунувшихся из окон, снова просят: «Pan? Tienes pan, camarada!» [39] Хлеб? Дай хлеба, товарищ! (ucn.)
Дети плетутся, цепляясь за юбки матерей, во все глаза смотрят на нас. Дети — и невзрачные и красивые — играют на перронах, на самых маленьких только куцые, едва доходящие до пупа платьишки. Дети в основном чистые и, как правило, изможденные; у них вспученные животы, ручки и ножки как спички, громадные темные глазищи.
На перрон выходит начальник станции, поглядев на вокзальные часы, он решительно дергает за веревку колокола, и в поезде разом запевают «Вставай, проклятьем заклейменный», а на перроне вскидывают кулаки и не опускают их, пока поезд не отходит от перрона. Детишки на руках у матерей тоже поднимают кверху кулачки, матери любуются детьми. Сердца наши радуются. Глядя на них, мы понимаем: они знают, кто мы такие и зачем приехали в их страну; знают, что мы с ними заодно; знают, что их борьба стала нашей борьбой. Это простые люди, рабочие, крестьяне, ремесленники, на их твердых смуглых лицах, в глубоких черных глазах светится ум.
«Лопес», сидящий рядом со мной, говорит: «Здорово все-таки слушать, как здесь поют «Интернационал». До сих пор мне не доводилось слышать его за пределами Мэдисон-Сквер-Гарден. Здорово, что есть страна, где его можно петь в открытую». У Гарфилда слезы на глазах; Меркель закуривает; Диас и Прието бранятся по-испански. В Испании на их услуги большой спрос, они тут нарасхват и слегка заважничали. Хвастун Гувер притих: задира Эрл совсем его затюкал, он цепляется к Гуверу, ни на минуту не оставляет его в покое. Эрл припирается к каждому слову Гувера, дает понять, что ничего путного от Гувера не услышишь. На Гувера это действует угнетающе, он сник…
Читать дальше