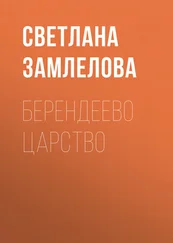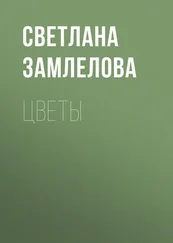В ту минуту я не раздумывала специально о возможном наказании. Но как-то безотчётно я понимала, что его не будет: никто не мог видеть меня, а если и видели, Иван Петрович не позволил бы дать делу ход.
Конечно, это была не просто шалость. Пожалуй, это был вызов. Лизе – потому что на неё могут подумать. И, обвинённая в совершённом не ею преступлении, станет ли она как все искать правды по судам или же явит собой образец кротости и всепрощения. Конечно, я была уверена, что последнее невозможно. Илье – потому что он всегда терпеть не мог Абрамку, но в неприязни своей ни за что не посмел бы зайти дальше проклятий и грязных ругательств. Матери – потому что с некоторых пор эпатировать мать сделалось для меня удовольствием. Ивану Петровичу – потому что это происшествие могло бы устроить значительную брешь в его карьере, и то-то я посмеялась бы. Всему городу – потому что одни глупо благоговели перед дурачком-Абрамкой, другие, подобно Илье, терпеть его не могли. И как Илья никогда не решились бы на такой поступок, хотя исходу, я уверена, были бы рады. Словом, видя во всех одну только ложь, я хотела, чтобы все они обнажились, я презирала их и заранее смеялась над ними.
Это сейчас я ужасаюсь, хотя ужас и удивление кажутся мне решительно чужеродными моим идеям и взглядам. Я ещё не во всём разобралась, и в голове у меня много путаницы. Но я хочу быть последовательной, для чего и стараюсь соотносить идеи и чувства. И в этом случае выходит, что поступок мой совершенно нормален.
В тот вечер все были возбуждены: вином, разговором, музыкой. Когда все разошлись, когда Иван Петрович с матерью отправились спать, я в своей комнате поджидала Илью.
Я кружилась, я напевала из «Горного короля» и чему-то смеялась. Волосы мои оставались распущенными. Я была в каком-то чаду.
Наконец звякнуло стекло под его пальцами.
Но не успела я запереть за Ильёй створки, как снова стукнула калитка, и снова заскрипел песок под чьими-то ногами. Я высунулась в открытое окно: по нашей дорожке влачился Абрамка. Он уселся на скамеечку под моим окном и застонал:
– Водички… Дайти Васи водички…
Теперь я смеялась под стоны Абрамки и проклятья Ильи.
– Что за чёрт принёс его! Надо было именно сейчас притащиться…Иди отсюда! – зашипел Илья, свесившись через подоконник, так что белая в синюю полоску рубашка его вылезла из-под брюк и заголила спину.
– Тихо! – шепнула я в самое ухо Илье. – Мать услышит…
– Ублюдочная рожа!.. Твоя мать и его услышит… И что, придёт?
– Водички… Дайти Васи водички… – донеслось с улицы.
– Чтоб ты сдох… – шипел Илья.
– Мать на него внимания не обратит. А вот если ты будешь орать, она точно придёт.
– Ну чего таскается!.. Урод… И как его до сих пор не прибил никто?..
– Дайти Васи водички…
– Заткнись! Убью!.. Ну кто этому придурку разрешает шататься? А? Зачем вообще жить такому уроду? Говорят все про эвтаназию… вот к таким бы применяли...
– Водички…
– Да пошёл ты!.. Слушай, а его надо к твоей сестре… Вот была бы пара! Откуда только такие берутся? Ну этот урод – ладно, его в крапиве нашли. А сестра твоя? Вот чудила… Её вроде твой отчим родил? А? Откуда она вообще взялась?
– Из архангельской деревни…
– Хм… Оно и видно! Вот тоже ещё… мыслитель из народа… самородок хренов…
– Дайти Васи водички…
– Так… всё…Дай ты ему воды! Пусть заткнётся!.. А то я уйду…
И вот именно в ту минуту в голову мне пришла блестящая, как показалось тогда, мысль. Я побежала в кухню, налила в стакан воды. Да, это был тонкостенный стеклянный стакан с нарисованным олимпийским медведем – символом Московской Олимпиады“80. Потом я присела и вытащила из-под буфета дощечку с крысиным ядом. Точнее, крышку от использовавшихся когда-то почтовых ящиков. На этой дощечке был насыпан яд вперемежку с какой-то приманкой. Я присела со стаканом в руках перед дощечкой, взяла щепоть порошка и бросила её в воду. Потом снова задвинула дощечку под буфет. Оставив стакан на полу, вымыла тщательно руки, стряхнула брызги в мойку, потом подхватила стакан и поспешила на двор.
Удивительно, но сейчас я в точности не помню, сначала ли я подсунула ему эту «водичку», а уж затем повлекла к флигелю или всё было наоборот. Оставив Абрамку на ступеньках, я побежала в кухню. Дважды вымыла я стакан с моющим средством, насухо вытерла полотенцем и вернула на прежнее место в буфет.
Илья ждал меня в комнате, но я снова выскочила на улицу. Я была в каком-то сильнейшем, диком возбуждении, так что сама себе казалась пьяной. Я понимала: то, что я сейчас сделала, было отвратительно и ужасно. Но, по-видимому, мерзость содеянного и пьянила меня. Я всецело отдалась неистовству, клокотавшему в груди и шумевшему в голове. Только единожды взглянула я на Абрамку: сидя на ступеньках крыльца, он держался за балясину и молча раскачивался из стороны в сторону. Полная луна ярко освещала двор. И Абрамка в лунном свете казался прозрачным. Я остановилась, подставив лицо луне, и вспомнила вдруг, как мечтала давеча сбросить с себя всю одежду. Я молча расхохоталась, и в ту же секунду всё, что было надето на мне, оказалось на земле. Ах, какая блаженная лёгкость охватила меня! Хотелось лететь, кружиться в пляске, и чтобы со мной рядом плясали такие же как я.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу