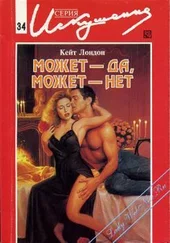Учителя с этими анекдотами я по арестантскому кодексу отпустил в свободное плаванье — как он знал и умел. Однако при прямых нападениях на его убеждения я вмешивался (доходило до таких заявлений: какое наслаждение видеть такого типа в нашей тюряге, или: езжай в Москву, нечего жрать наш хлеб; убийца ему однажды сказал: «Еще раз разинешь пасть на меня, я на тебя обрушу такую кучу деликтов, что тебя повесят»). Приходского священника и иеговиста я никогда не защищал, когда от их идеологии не оставляли камня на камне, — они вели себя слишком по-дурацки. Хотя я (со своей группировкой) защитил мусульманского брата и иезуита, поскольку у них было собственное достоинство. И они к тому же были готовы чем-то жертвовать за свои убеждения, какими бы они ни были. Ни мусульманин, ни иезуит никогда никого не насиловали своими «правильно». Хотя мусульманин был бесчисленное количество раз голоден, поскольку подозревал, что в еде свиной жир, а иезуит, несмотря на все изоляции и наказания, никогда не жаловался, потому что «его государство не от мира сего». Это проявлялось и в его отношении к еде, которую он с умом (не то что левая рука не знает, что делает правая) разделял нуждающимся — а не тем, кто ему нравился. Мусульманин получил от него больше, чем набожный сапожник, судимый, потому что порицал нападение на епископа (которого где-то облили бензином и подожгли, он отделался только ожогами); сапожник ширил «вражескую пропаганду» — будто того пытались сжечь агенты полиции; это был пугливый человек, плакавший, рассказывая, как его «отлупили, как лошака».
Тяжело было писать в то время и в том окружении. Я закрывался одеялом с головой и портил себе глаза. Столько вещей — казалось мне тогда — я еще должен выяснить. Non perdere diem , мне нельзя терять ни дня!
К тому же я должен был наладить новую линию для контактов с внешним миром, частично для спасения рукописей, а частично для поднятия собственного духа. Я сконцентрировался на одном надзирателе, показавшемся мне после изучения его реакций самым подходящим. Впрочем, это очень большой риск, поскольку «чужая душа — потемки». К тому же дело требует много времени — и за малейшую ошибку можно жестоко поплатиться.
Продвигаться следует незаметно для окружения, вникающего в любую мелочь и в неволе приобретающего особенно острый нюх на необычное. О шпионаже я знал до тюрьмы только то, что он существует ( Le monde est empésté d’éspions — «мир заражен шпионами» — прочел я где-то), только внутри я изучил эту область человеческой деятельности и о способах «вербовки агентов». Говорят, что самый частый способ — подкуп, на втором месте — апелляция к каким-нибудь политическим убеждениям (такие агенты — самые лучшие, поскольку бескорыстно жертвуют собой на этом несчастном поле деятельности), и сразу же на третьем — вынуждение при помощи какой-нибудь жизненной тайны («если не сделаете того-то и того-то, расскажем вашей жене о любовнице»; «обнародуем, что вы — гомосексуал»; «заявим на вас из-за военного деликта»; «раскроем ваши денежные растраты» — и подобные вещи — за этим следует совсем легкое и не особо опасное задание, например: «вы принесете нам планы нового городского водопровода… или протокол заседания…» жертва поддается давлению, думая, что все это не так страшно — но это только начало; вскоре приходит другой агент, у которого в распоряжении материалы от первой проработки плюс уже совершенный акт шпионажа — и жертва постепенно увязает в болоте, из которого нет спасения).
Все вместе для обычного человека весьма скользкое дело, ведь оно связано с ложью и обманом, тайной и предательством — и к тому же неблагодарное, многие международные службы бросают своих пойманных агентов на произвол судьбы. Самая дурацкая, но очень распространенная — форма вынуждения страхом (тот же самый подкуп наоборот), такие агенты работают под давлением против собственных убеждений, и позже или раньше в их внутреннем мире происходит шизофренический раскол. Сколько таких в неволе пытались подобным путем спасти свою голову или получить снижение наказания! Такой агент себя плохо чувствует в собственном окружении, которое предает, к тому же и наниматель его презирает и не доверяет ему. Однако он полезен и необходим администрации, поэтому зачастую выходит на волю позже, чем его жертва.
Я знал совершенно простого человека, сломленного в оккупационных тюрьмах и работавшего на оккупационную полицию, и после войны он опять сломался в наших тюрьмах и покончил с собой. Вместе с тем профессиональные полицаи с легкостью переходят из рук в руки, и между представителями самих враждебных полиций мира в тюрьмах появляется некая солидарность, когда худшее бывает позади. Полицейский — это профессия, шпион только скрывается за маской какой-нибудь профессии.
Читать дальше
![Витомил Зупан Левитан [Роман, а может, и нет] обложка книги](/books/32925/vitomil-zupan-levitan-roman-a-mozhet-i-net-cover.webp)