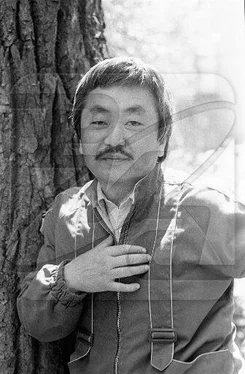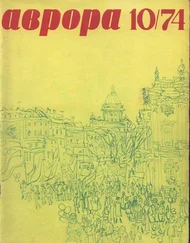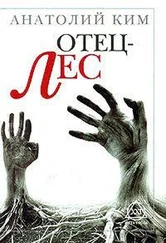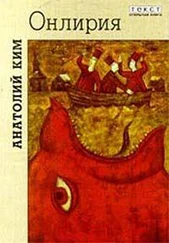Осмотрев мои документы, чеченцы поступили со мною очень странно, непонятным образом. Они отделили меня от остальных пленных – и выдали пистолет, по всей видимости, заряженный. Затем я был выведен в ночную мглу, на край какой-то улицы. Сопровождавший меня чеченец близко склонился ко мне, что-то говорил, мерцая светящимися в темноте глазами. Он оказался таким же высоким, как и я.
Потом он исчез куда-то, и я долго шел один в темноте, сжимая в правой руке пистолет, не понимая, зачем он нужен мне. Потом высокий чеченец снова появился рядом – забрал назад пистолет, махнул рукою в направлении, куда мне следовало идти, даже слегка подтолкнул меня в спину. И я послушно зашагал в ночи.
Я был убит двумя выстрелами, точнее – первым же выстрелом, тем самым, вспышку которого я еще успел заметить. Должно быть, этот выстрел оставил след ожога на моем лице, а пуля прошила дыру где-то во лбу или на перено- сице – офицер стрелял, почти уткнув дуло пистолета мне в голову. Второй выстрел был контрольным, но совершенно ненужным.
Я остался навеки двенадцатилетним, но мой дядя из Гудермеса однажды говорил мне, что новорожденный младенец старше своего отца и внук старше деда, потому что младенец родится намного позже своего отца, и деда, и прадеда. И в нем, в этом младенце, родовая жизнь насчитывает большее число лет, чем в его предках, если он, конечно, переживет их. И он обязан жить дальше, потому что в нем продолжится жизнь его рода. Мне дядя Ибрагим сказал, что теперь, когда погибли и отец мой, и старший брат Валид, а скоро, может быть, и сам дядя погибнет, я самый старший в роду, и я должен уйти в деревню и сделать все, чтобы остаться в живых.
Я собирался это сделать, потому что дядя Ибрагим так велел, я не мог его ослушаться. Но оставалось еще две бутылки зажигательной смеси, и я решил их использовать напоследок. Когда увидел, что бэтээр выехал из ворот автобазы и поехал по левой улице, я побежал напрямик по узким переулкам. Я решил подкараулить бэтээр за углом пятиэтажного дома, на узком месте, где он будет заворачивать и замедлит ход. В этот момент ничего не стоило забросать его бутылками, а потом убежать в развалины, которые начинались сразу же позади пятиэтажки.
Другой обратной дороги для выехавшего бронетранспортера не было – возвращаться можно только по той улице. Я подкараулил бы и сжег его, а потом удалился бы в деревню. Но я не успел добраться до этой улицы раньше, чем бэтээр. Потому что кроссовки моего брата Валида, которые он купил в
Санкт-Петербурге, куда ездил в прошлом году, когда еще был жив, – его
«адидасы» были слишком велики для меня, я никак не мог в них бежать быстро.
Меня поймали уже недалеко от перекрестка, около пятиэтажного дома, там и пристрелили за углом. А через несколько минут подоспели наши с дядей
Ибрагимом, который догадался, куда я пошел. Но со мной было уже покончено, и тогда гудермесская группа с ходу атаковала командный пункт, который находился в кирпичных подвалах автобазы. Все русские там были перебиты или взяты в плен, никто не ушел, и только отпустили одного иностранного корреспондента. Это дядя Ибрагим попросил, чтобы иностранца отпустили. Но и тот не дошел до своих – по дороге его настигла шальная пуля.
Я запомнил, как днем раньше этот корреспондент разъезжал по самому центру
Грозного, стоя в бэтээре, словно какой-нибудь отчаянный малый из американского кино. А когда меня поймали с бутылками и прижали спиною к стене, он словно столб торчал в машине и смотрел, как надо мной издеваются.
Потом отвел глаза в сторону и не стал смотреть. Когда после захвата КП проверили его документы и оказалось, что он не только корреспондент иностранной газеты, но и старинный кровник нашего рода, дядя Ибрагим и попросил, чтобы иностранца выдали ему.
Дяде стало его жалко. Наверное, ему передалось что-то из того, что почувствовал я перед тем, как потащили меня расстреливать за угол дома. Ведь я смотрел на этого иностранца, как смотрят на того последнего, остающегося в жизни, которого видишь перед самой смертью. И он точно так же смотрел…
Передо мною были испуганные, как у меня самого, глаза иностранца. У остальных, которые выставились из бэтээра, держа автоматы дулами вверх, и у тех, которые стояли на земле передо мною, были совсем другие глаза. В них нельзя было смотреть – да и не надо было мне смотреть в них.
Когда чеченец приходил к врагам, чтобы выкупить у них тело убитого брата, – им в глаза он никогда не смотрел. Если же его самого ловили и собирались убить, он тоже не смотрел им в глаза. Так продолжалось столетиями. Чеченская война была войной не только против русской империи, но и войной против всех империй – за то, чтобы каждый из нас был свободным, жил на своей земле, никому не подчиняясь. И это желание, пожалуй, было единственным, чего не мог изменить чеченец ни в жизни, ни в смерти своей. Желание быть свободным и никому не подчиняться – никакому царю или императору. Так говорил мой дядя из Гудермеса.
Читать дальше