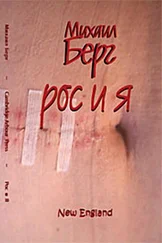Нас привели в огромный зал, оформленный с тяжеловесной бюрократической роскошью - красного дерева мебель, огромные окна, забранные душными пыльными шторами, вытянутый во всю длину полированный стол посередине и стулья с высокими спинками по периметру: здесь можно устраивать и заседания Политбюро, и вызывать на партактив проштрафившихся работников пера и блокнота. Сели мы напротив друг друга, на те стулья, что он указал; я не сомневался, что сюда подведены микрофоны, тем более, когда увидел, что господин Лунин не собирается никоим образом фиксировать нашу беседу.
Разговор длился часов пять. К его концу у меня сложилось впечатление, что я переиграл твоего сослуживца по всем статьям; с этим радостным ощущением мы расстались, и только потом я понял, что мы играли не вдвоем, а втроем - третьим был маленький игрушечный Горбачев, в данном случае олицетворявший быстро меняющееся Время. Оно на самом деле проставляло свои акценты, куда более важные, нежели мои остроумные ответы; и кабы не время, моя победа, без сомнения, оказалась бы пирровой. Но начнем по порядку. Сначала говорил только он, а я лишь слушал с возрастающим изумлением, которое, на самом деле, являлось функцией моей недостаточной готовности к подобной беседе. Увы, нам слишком часто свойственно недооценивать противника, особенно, если его позиция с моральной точки зрения кажется ущербной. Но это наш взгляд на вещи, в то время как противник может быть точно так же уверен в своей нравственной правоте, а в ущербности подозревать вас. Кроме того, моральный релятивизм не имеет однозначного влияния на интеллектуальную вменяемость, что мы тоже очень часто упускаем из виду.
Второе мое заблуждение касалось чисто тактического узора разговора. Я ожидал угроз, предупреждений, коварных вопросов, цель которых подловить меня на противоречиях и выдать случайно кого-нибудь из моих друзей. Иначе говоря, я настроился на стиль жесткой интеллектуальной и психологической борьбы, к которой был готов. Вместо этого мой собеседник в качестве прелюдии, исполненной с мягкой и сочувствующей интонацией, познакомил меня с тем, что точнее всего можно было бы назвать пространной устной рецензией на мое литературное творчество. Он говорил о моих романах, с легкостью приводя длинные цитаты, без сомнения льстя моему самолюбию, но льстя настолько грамотно, аргументировано и обстоятельно, что не мог не произвести на меня впечатления. Он говорил не с позиции предполагаемого противника, а напротив, как мой сторонник, сетуя на то, что такой серьезный и значительный роман как Отражение в зеркале с несколькими снами до сих пор не опубликован. Что это безобразие, что писательская верхушка - выжившие с ума консерваторы, которые в борьбе за свои теплые места не хотят и боятся всего нового, в то время как мой роман - это именно то, что сейчас ждет современный читатель, и он готов в некоторым смысле стать моим литературным агентом и добиться публикации романа в одном из ленинградских издательств. Что я по этому поводу думаю? Что же - интересно - думал я? Пока он приводил доказательства моего писательского таланта, я пытался вспомнить, что он кончал - что филолог, это без сомнения, но если бы был с филфака университета, я бы знал, значит, скорее всего, после филфака пединститута имени Герцена. Грамотно говорит, пожалуй, одна из лучших рецензий на мое Отражение , не ожидал, не ожидал.
Однако только я услышал, что мне предложена помощь всесильного Комитета, то даже не стал размышлять о цене, хотя, конечно, не сомневался, что с такой артиллерией опубликовать можно, действительно, многое. Для меня писатель, которому помогает КГБ, уже не писатель, да и вообще никто. Поэтому сказал: «Вы знаете, я в этой жизни не тороплюсь. Пусть все идет своим чередом. Я подожду, когда издатели мне сами предложат, а там уже решу - как себя вести». Здесь разговор передними колесами погряз в колее и начал буксовать вокруг его попыток убедить меня, что его помощь - это просто помощь читателя, небезразличного к судьбе современной литературы и желающего, чтобы новые имена, которых читатель ждет и ищет, наконец, появились. Очевидно, такова была диспозиция разговора - заставить меня принять помощь, стать другом, а затем уже на совсем иных основаниях продолжить наступление. Но тебе я могу сказать без всякого смущения, что в мои 33, когда уже были написаны и Вечный жид, и Василий Васильевич , и даже Момемуры , купить меня посулами было невозможно.
Читать дальше