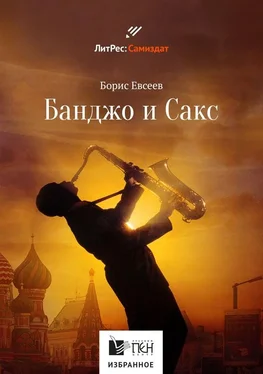Мехди с ней почти не разговаривал. Он чего-то ждал, на что-то надеялся, скудно кормил её и почти не принуждал к сожительству. Однажды он попробовал, но получилось у него скверно, неловко.
Мехди пришел к ней ночью, сказал:
– Я не знаю, за что тебя любил Надиршах. Я тебя презираю. За то, что смелая. За твой рот. За всё. Так, презирая, я и буду тебя любить. Раздевайся!
Она быстро и ловко разделась, подошла к нему вплотную, ласкаясь, опустилась на колени, мягко поднесла к лицу правую его руку и крепко прикусила зубами указательный палец этой руки. Он пытался нагнуться, ударить её. Но она вгрызалась зубами в мякоть пальца всё сильней и сильней, давая понять: ей ничего не стоит перегрызть сухожилия, сломать кость, откусить палец напрочь…
– Хорошо… Я не трону… Не трону тебя больше… – сказал он через несколько минут. Она разомкнула зубы, вытолкнула изо рта его бесчувственный палец, выплюнула кровь и всё так же легко (не стесняясь его, лишь повернувшись спиной) оделась.
– Я понял, почему ты была с Надиршахом, – сказал Мехди уходя. – У курдов сладкая кровь. Поэтому их бьют, убивают, кусают. И будут убивать, кусать. А ты – вамп. Вампирка. Посмотри на свой рот в зеркало. С таким ртом выходить на улицу нельзя. Будешь дома.
– Я не вамп. Я русская баба. Люблю за раз только одного. Сейчас я люблю Надиршаха, – ответила она и замолчала на год.
Три года она не пыталась выбраться из козьего (коз было множество во дворах, на склонах, на улице) селения. Куда? Зачем? Как-то вначале она попыталась сообщиться с местными жителями, вышла на улицу, говорила, что из России. Её не понимали, шарахались, бормотали что-то на непонятном – не курдском, не турецком, не армянском – языке.
На четвертом году она легко, внезапно, без малейшей натуги и без малейших сомнений запела. Мехди петь не разрешал, называл пение развратом. Но как только Мехди уходил, она начинала петь снова. Пела она теперь только русскую классику. Иногда пела народные песни, добавляя в припевы триолек из немецких зингшпилей. Что-то происходило с её голосом, с её великолепным, грудным контральто! Голос стал глубже, объёмней. Диафрагма работала чётко, сильно. Классика стала звучать в её исполнении возвышенно и чуть зловеще. Народные песни становились дикими и суровыми, под стать горам. Под стать горам были и теперешние мысли: тяжко-осыпающиеся, ранящие, но и сверкающие, но и сияющие иногда остро и чисто, как предполуденные вершины.
Знакома она была в козьем селении только с тремя женщинами. С одной из них – сестрой Мехди – она подружилась. Зара и сообщила ей: Мехди не тот, за кого себя выдает. А больше Зара сказать ничего не может и спрашивать её не надо, не надо! Зара говорила по-русски намного лучше Мехди. На вопрос: в какой стране они находятся, Зара лишь печально опускала глаза: «Здесь нет страны. Здесь земля небольшого, но очень строптивого народа.» Зара называла какое-то племя, о котором никто, кажется, и слыхом не слыхивал. На вопрос, почему вокруг нет мужчин, Зара загадочно, но и по-восточному застенчиво, отвечала:
– Они воюют. Они всегда воюют. А ты поёшь. Ты всегда поёшь.
Конец её пленению пришел нежданно-негаданно. Мехди вдруг потерял чьё-то покровительство, кто-то предал его. В комнате для размышлений он кого-то ругательски ругал по-английски и по-курдски, не спал ночами, ходил, как привидение, по каменному, вросшему обоими этажами в скалы, дому. Мехди приходил и к ней, грозился убить, плакал, кричал, говорил, что его «кинули», что он ошибся в хозяине, и теперь ни головы, ни денег (денег в доме никто никогда не видал) ему не спасти.
Однажды днём по единственной улице козьего селения медленно проехала машина. Она ехала себе и ехала, жалко блестя жуковатой коричневой спинкой. Наблюдать за неуклюжей машиной в горном диком селении было уморительно. Ёлка глядела на машину из верхнего окна и смеялась. Машина скрылась, ушла за изгиб улицы, а через минуту за машиной выскочил и припустил со всех ног, как сумасшедший, Мехди.
Домой Мехди вернулся поздним вечером. Лицо его было мучнисто-белым, глаза выпучены, как у рака. Похоже было, что он опился густого макового настоя. Натыкаясь на горы пуфиков, на старые деревянные кресла, Мехди побрёл по дому. Наконец, добрёл до её комнаты. Она тихо пела. Тяжко-сладкие низа из «Царской невесты» брались ею дерзко, мощно, точно…
– Рот женщины – помойная яма, – сказал Мехди, задыхаясь то ли от сдавленного смеха, то ли от невидимых слёз. – Ты не будешь больше раскрывать свой рот. Ни для любви. Ни для пения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу