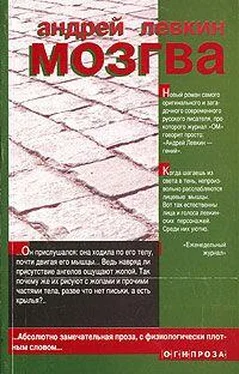Кома, о которой он подзабыл (а она никуда не делась, проедая его изнутри, вызывая необязательные поступки, вроде поездки к брату), его тут и подстерегла, на том же самом куске тротуара, на котором он ощутил ее в конце декабря.
Возможно, что это была уже и не она сама, а с прошлого раза здесь сохранился ее отпечаток, но разницы не было никакой. Отпечаток действовал совершенно так же: по позвоночнику пробежало некое электричество, что немедленно призвало кому. Будто она сама к нему уже прийти не удосуживалась, но готова была явиться, когда он о ней вспомнит.
Тут он сделал еще одну ошибку (предыдущая состояла в том, что если бы он пошел по другой стороне улицы, обошел бы пятно комы, чуть-чуть сырое и шершавое одновременно, как говяжий язык; мелко-складчатое, лежавшее на тротуаре возле армянского магазина — а он мог это сделать, там был переход на другую сторону Минской, но светофор горел красным — тогда все бы обошлось, история бы и закончилась, он бы вернулся в прежний ум). Теперь он ошибся, неправильно глядя на брата: рассматривал, как повылезали его волосы, как ухудшилась кожа лица. Отстраненно изучал, как тот устраивает дома свой личный спектакль — для домашних, по поводу какой-то бытовой позиции. Его близкие тоже были вполне известны и тоже теперь представлялись некоторыми механическими машинками, заводимыми во время сна. Ну и что? Так и бывает. Были молоды, например, а потом — уже нет. Извлекать из этого факта личную метафизику не годится, потому что из этого она не извлекается. Вот если бы О. подумал, какие они все хорошие, тогда еще может быть. Будто не знал теорему Геделя о неполноте, которая, мягко выражаясь, утверждает, что при определенных условиях в любом языке существуют истинные, но недоказуемые утверждения.
* * *
Кома окончательно стала членом его жизни только сейчас. Кажется, сломалась какая-то перегородка — условная, ничего физически не преграждающая, как шлагбаум. Ему уже не надо было всякий раз обнаруживать, что кома есть, верить всякий раз в то, что она существует. Вот и теперь: пришел в гости, посмотрел по сторонам. Не просто пришел, но — стал осматриваться, это в квартире-то, где бывал уже лет сорок. Просто бы поговорил, напился бы даже — вполне по-человечески; нет, пил водку и думал: странно они как-то живут, дико. Хотя это же просто жизнь, и у него такая же, а ему не понравилось и стало грустно. Будто у них был какой-то шанс. Какая-то перепонка в нем прорвалась, и кома из того, что присутствует рядом, стала тем, что присутствует всюду, потому что проникла внутрь.
Она теперь действовала не только, когда мозг входил в соприкосновение с ней, она уже сама входила в соприкосновение с ним. Не так, что позвали по имени, и она появилась, а наоборот — появилась и в мозгу возникло ее слово. И уже приходила не одна, тяжелая, у нее теперь были то ли отростки, то ли многочисленные верткие представители, являющие ею: большой, все так же похожей на сырую свиную печень, ерзающую и тут, и в неизвестном мире.
К этому времени кома пометила уже всех его знакомых — не отмеченными ей оставались редкие люди и места. И даже его дом: как-то случайно он о ней задумался, посмотрев на светящиеся окна напротив, через двор. Вот и все, и дом теперь заражен: вечерний, с включенным электричеством. Это все быстро и просто: в конторе ту девочку с аквариумом разглядывал — контора заражена. И квартира приятеля. И улица по дороге к нему. И это стыковалось одно с другим, то есть было объективным, реальным, повсеместным. Кома действовала примерно одинаково, различия же были связаны лишь с оттенками самочувствия. Мир вокруг него становился облученным комой, то есть — не мир, а сам он стал уже генетически модифицированным. Так что начиналась уже какая-то другая жизнь.
* * *
30 января был средой, он еще лежал в кровати, от окна слегка сквозило, все разошлись по делам, а у него лекции были после часа, а теперь только 10 утра. Маленький он такой лежал, непонятный. На ум приходили смутные желания, детские: своровать, например, что-нибудь, без всякой необходимости. А всему виной сонное, утреннее — субботне-воскресное, выходное бормотание радио, которое сейчас редко на каком канале бормочет, а это, из кухни, как раз бормотало, «Эхо», разумеется, не выключили уходя. А еще и солнце в окне, на кухне шумит чайник, чайник-то уже сам поставил, когда проснулся и ходил в туалет. Славная расслабленность, всю жизнь одинаковая. Вечная ценность, в общем.
Читать дальше