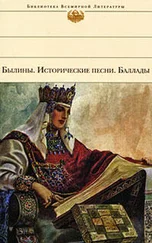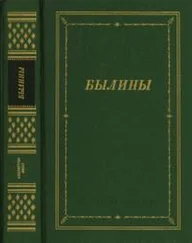Тем временем «исход науки» продолжался. Отъезжали целыми семьями вместе со своими умненькими детишками. Мы с Женей как-то насчитали более пятидесяти «слинявших за бугор» семей, которых лично знали. Большинство сотрудников моей лаборатории свалили, в том числе и Дмитриев. Признаюсь, я тоже мучительно решал — ехать не ехать, ехать не ехать… Умом понимал — вроде бы надо, но сердце решительно сопротивлялось.
Помню, как все мы, оставшиеся, с волнением ожидали приезда первых отпускников-эмигрантов — ну, как там, как, как, как?! Приехали — один, другой, третий… Лоснящиеся мордашки почти у всех округлились, а в высокомерных взглядах читался один вопрос: «ну, че, вы все еще здесь?» Нет, многие из них вели себя вполне тактично, но кое-кто просто захлебывался слюнями, давясь байками про заморские «чудеса». Иногда их поросячий восторг выглядел настолько неестественно, что закрадывалось сомнение: а не самоутверждаются ли ребята за мой счет? Казалось, все свое высокомерие и снобизм «слинявшие», за неимением другой «аудитории», решили излить на нас, своих вчерашних коллег, оставшихся на Родине. И чем менее успешны они были «там», тем больше, по закону компенсации, они пытались «отыграться» на нас здесь. Одна особа договорилась до почти расистского утверждения: «Все делятся на две группы — тех, кто еще не уехал, и на тех, кто не сможет уехать никогда!» Вторая группа, по ее логике, состояла сплошь из представителей «низшей расы». Подобные слова жалили очень больно, ведь крыть в ответ нам тогда было абсолютно нечем… А когда я пытался что-то вякать про любовь к Родине, кое-кто из представителей «высшей расы» смеялся мне в глаза.
Первыми из нашего института уехали «маячки» — ученые, в полном смысле слова. Я подумал, что, наверное, это оправданно, ведь их квалификация дорогого стоила, ее необходимо было сохранить. Потом пошел «второй эшелон» — те, кто послабее: цепная реакция, «массовый психоз», полагал я. Но когда поехал «третий эшелон», захотелось крикнуть, мол, вы-то какие, к черту, «ученые»? И я понял: «крысы бегут с корабля». Хотя многие из «третьих» вполне могли бы попробовать реализовать свои способности в других сферах дома: предприимчивых, оборотистых ребят среди них хватало.
Тему отъезда для меня на веки вечные закрыл в 1996 году мой бывший шеф, за что я ему крайне признателен. Он был существенно старше меня, на порядок более авторитетен как ученый и, проживая за океаном к моменту нашего с ним разговора уже несколько лет, преуспел там, пожалуй, больше всех из знакомых мне пилигримов. Выпендриваться передо мной ему было незачем, поэтому я, немного страшась ответа, откровенно спросил:
— Скажи честно, надо уезжать?
Шеф отвернулся и минуту смотрел в форточку — я терпеливо ждал.
— Знаешь, если ты здесь не бедствуешь и относительно комфортно себя ощущаешь, я бы не советовал. Запомни, что бы ни пели тут наши, почти все они там — старшие лаборанты, а никакие не ученые. Я многих из них держу в поле зрения. По крайней мере, на различных конференциях и симпозиумах регулярно вижу лишь нескольких из них.
А последняя его фраза и вовсе поставила жирную точку в этом вопросе:
— Первое время, и довольно долго, было предельно тяжело, хоть удавись…
М-да… И добро бы все они, «новообращенные», там, за бугром, были счастливы. Ну, не бедствуют, конечно, получая свою ренту с богатства стран, не ими созданного, трудятся в меру сил на ненавистного американского «дядю», одновременно боясь и лебезя перед своими боссами. Как пел когда-то Окуджава: «И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб…»
Помню, сидели как-то у меня дома с одним из моих бывших коллег (он приехал из Штатов в отпуск). Пили водочку под соленые грузди и помидорчики, пели под гитару кээспэшные песни. Спрашиваю: «Знаешь, чем отличается исполнение этих песен здесь и там? Здесь я их пою, а там бы их скулил». «Бывший» ничего не ответил, только вздохнул.
Я, конечно, не имею права осуждать всех уехавших, да и альтернатива их отъезду, которую сам же описываю, не мед. Перефразируя Окуджаву, можно сказать: «И сладок мне мой горький, мой, патриота, хлеб…»
Сегодня я могу достаточно объективно сравнивать два огромных сообщества людей: бизнеса и науки. Быстро соображающих, комбинирующих, стратегически и тактически мыслящих игроков среди бизнесменов больше, ведь в бизнесе, особенно крупном, без этого не выжить. Но интеллектуальный уровень у научных сотрудников выше. Впрочем, не берусь угадать, сборная какого из этих сообществ победит, к примеру, в двустороннем шахматном турнире. В бизнесе полно бывших «тружеников науки», но вот способность «чистого» бизнесмена стать ученым крайне сомнительна. И не дай бог, чтоб вновь настали времена, когда кандидаты наук рядами и колоннами шли бы в торгаши.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
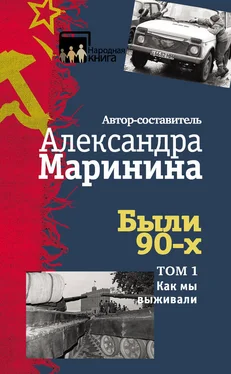

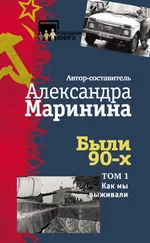


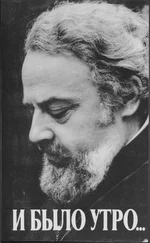
![Коллектив авторов - Масоны. Том 1 [большая энциклопедия]](/books/176880/kollektiv-avtorov-masony-tom-1-bolshaya-enciklope-thumb.webp)