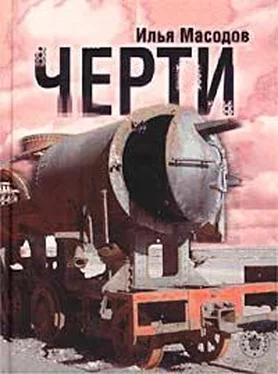Клава не помнила, как уснула, а проснулась она оттого, что на улице визжала женщина. Потом сухо и больно, словно чем-то плашмя ударили по воде, хлопнул выстрел. Клава сжалась. Едва проснувшись, она на мгновение позабыла, что случилось за минувший день. Теперь, после выстрела, она все вспомнила.
В дверь грохнуло.
— Откройте! — раздался за дверью мужской голос, совсем не похожий на голос Валентина Сергеевича. Женщина на улице продолжала визжать. Клава вскочила и залезла с Тобиком под кровать. Там было пыльно и немного пахло нафталином. Протиснувшись поближе к стене, Клава вытолкала вперед себя какое-то приползшее сюда раньше нее свернутое одеяло и затаилась. После двух ударов последовал такой мощный, что дверь треснула. От этой нечеловеческой силы удара Клава стала шептать молитву. Хлопнул выстрел, и сразу за ним в комнату ворвался топот сапог. Из-под кровати Клава увидела заметавшийся снаружи луч электрического света.
— С-сволочь! — саданул все тот же голос, на пол шлепнулся плевок. За стеной рухнуло что-то тяжелое, со звоном посыпалось стекло. Кровать перевернулась над Клавиной головой, сверзнувшись со своего вековечного места, и ей брызнули фонарем прямо в глаза. Клава зажмурилась.
— А ну, вылазь! — заорало на нее из черноты, и, не дожидаясь ответа, нечеловеческая сила схватила Клаву и вздернула вверх, поставила к стене. Клава стояла теперь на том месте, где раньше была сдвинутая в сторону кровать, с Тобиком и закрытыми глазами.
— Кто там, Васька? — рявкнул голос из-за стены.
— Девчонка тут! — отозвался названный Васькой. — Кто такая, как звать?
Клава медленно открыла глаза. Свет бил ей в лицо. Монстра было не видно, его скрывала тень. Потом свет резко мотнулся в сторону и каменная боль врезалась Клаве в рот, чуть не выломав ей голову. Она бы упала, но Васька не дал ей упасть, схватив рукой за плечо.
— Еще дать? — осведомился он.
— Не надо, — еле опомнившись, ответила Клава, предварительно проглотив смешанную с кровью слюну.
— Тогда отвечай.
— Я Клава, Орешникова.
— Сколько лет?
— Одиннадцать.
— Буржуйка?
— Не знаю.
— Не знаешь? Значит буржуйка. А знаешь, что теперь с буржуями делают?
— Нет.
— К стенке. Или штыком в пузо.
В комнату вошел еще кто-то, тяжело и неровно топая сапогами.
— Больше никого нет. Вся квартира пуста, — произнес голос, что раньше говорил из-за стены. — Сбежали, суки. Ты гляди, какая буржуечка.
— Нравится? — засмеялся Васька. Он с бешеной силой схватил Клаву за ворот платья и дернул в сторону. Ткань разорвалась по шву. — Сиськи еще не проросли, — гадко чмокнул он.
Во время рывка воротник больно резанул Клаве шею, и она сжала зубы от боли. В воздухе вспыхнуло пламя зажженной керосиновой лампы, и тогда Клава увидела наконец красных. Это несомненно были они, потому что глаза у них светились тусклым кровавым огнем. В остальном они выглядели, как пьянчуги, и раньше бродившие по границам рабочих кварталов. Но Клава сразу догадалась — это не люди, а страшные оборотни. От оборотней несло луком, блевотой и дубленой кожей одежд. Васька был массивен, всклокоченная и как будто мокрая борода покрывала ему половину лица там, где обычно находится рот, и дышал он через бороду, будто намеренно фильтруя воздух от вредных примесей. Глаза Васьки постоянно таращились, как у какого-нибудь земляного жителя, а скулы выглядели как-то стоптано, уплощенно, зато щеки походили на поднявшееся тесто, гладкое и ноздреватое, из этих пор вылезали на свет волосы, как лапки упавшего в щель паука. Второй мужчина был старше и меньше ростом, тело его ссохлось на тропах революции, борода порыжела от пылающего степного солнца. В руках он держал рифленую гранату, и лицо у него было таким злым, что Клава сразу стала дрожать.
— Чего трясешься? — дико крякнул Васька и с размаху врезал Клаве кулаком в живот. Клава успела увидеть, как дернулось смотревшее вверх дуло винтовки за его спиной, потом страшная боль согнула ее в поясе, и она повалилась на пол.
Так Клава стала членом семьи Барановых. Оборотень с порыжевшей бородой оказался главой этой семьи, Семеном Барановым, а Васька — это был его сын, Василий Семенович. Еще у Семена была жена — Евдокия Баранова, которую он называл «мать», курносая худая баба с длинным черным волосом и лишенная многих зубов — их выбил ей муж за годы совместной жизни, казавшиеся ей столетиями. Однако столетняя жизнь не изводила Евдокию без потребы — встречая, к примеру, рухнувший дом, она сама жалела его, преждевременно упавшего в пыль под давлением ветра, морщины сужались на ее лице и она смотрела на руины со спокойной скорбью, как смотрит вечность. Лишь иногда что-то неведомое и слепое скручивало Евдокию изнутри, силы покидали ее, оставляя сохнуть в одиноком мучении, и тогда Евдокия забиралась в погреб и валялась там на полу, как неживая, и крысы бегали по ней, не осмеливаясь грызть отравленное такой печалью тело.
Читать дальше