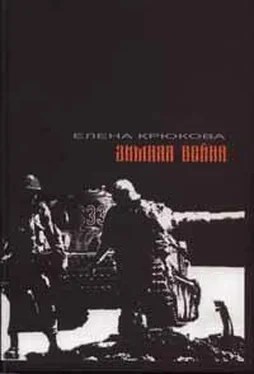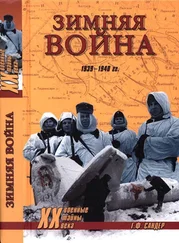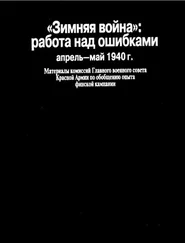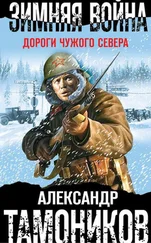Это я так люблю тебя. Это чтобы жить.
И я сгибала колени, садясь на хрустящий подо мною лесной снег, с ребенком на руках, плача-заливаясь, перед Отцовой скатертью-самобранкой, и брала рыбу руками, и масло – золотою, торчащей в масленке ложкой, и ела, глотая слезы, рыдая, и совала в ротик младенчику то ложечку зернистой икры, то глоточек манной каши, то вливала сливки из дудочки фарфорового молочника, – а Отец, сняв Корону и держа ее у груди, там, по другую сторону скатерти, глядел на нас, вкушающих пищу, и из его глаз тоже текли слезы, и губы его шевелились – должно быть, он молился, твердил молитву, что мы забыли с малюткой прочесть перед едой: Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. О, Отец, и Твое Царствие тоже приидет; я знаю это, я.
Мы ели. Он глядел на нас. Пихты, ели в вышине шумели, содвигались вершинами. Хвойные лапы осыпали на нас, сгорбившихся над скатертью, горсти снега.
И, когда мы все съедали, ибо мы бывали очень голодны, Отец уходил, молча, ни говоря ни слова, лишь осеняя нас на прощанье широким, медленным крестом.
Она с ребенком, бредя по лесу, однажды раздвинула еловые ветви и отпрянула: прямо перед ней возвышалась высокая и узкая, поросшая лесом гора. Кое-где сквозь потемень хвойного воинства золотели оставшиеся от осени рыжие, алые, яркие лесные пряди. Ей в лицо бил сырой, вперемешку с дождем, снег. С моря наносило соленую, ветреную оттепель. Она чуть не споткнулась об огромный, мшистый валун, заглядевшись на гору. Как называла ее Люська?.. А, да. Секирка. Как секира – срежет ее голову?.. Или ее здесь, на вершине, высечет Бог, чтоб убивать людей боле неповадно было?..
Сидящие на валунах толстые куропатки тяжело вспорхнули, полетели низко над белой землей. Собака без хвоста, с волочащейся по снегу лапой, показалась из-за камня, тихо, жалобно заскулила. Нет у меня ничего дать тебе в зубы, собака. Всю еду ночью, из рук Отца, с малюткой съедаем.
Она, сощурясь от нестерпимого белого света неба, глядела на гору, глядела на крутую, отвесную деревянную лестницу, падающую с вершины донизу. Ребенок на ее руках заворочался, заплакал тоненько. Что ты почуяло, Божье дитя? Родную кровь, пролитую здесь?..
Две женщины, девочка-подросток и умеющая лишь плакать да улыбаться крохотулечка, замерли у подножья горы, откуда с лестницы сбрасывали вниз мучеников, и расстрелянных и живых, и девушка перекрестилась, потом покрестила лежащее у нее на руках тельце. Идеже ни болезнь, ни воздыханье, но жизнь бесконечная. Беглецы спаслись. И мы спасемся. Люську жалко. Иакинфа убили.
Для ночлега она отыскала старый монастырский скит, забралась в каменный бочонок, так прижалась к малютке, что ей показалось – два их тела слились неразъемно. А ночью опять пришел Отец, и снова с едой, и, кроме еды, еще держал в руках образок; и она поняла, протянула руки к образку, а он вздохнул, как вздыхают дети после плача, прерывисто, жалобно: «Да как же я на тебя его надену?.. Мне же к тебе нельзя притронуться… нельзя близко подойти…» – и она утешающе сказала ему: «Да ведь ты до меня и не дотронешься, ты просто бечевку мне на шею накинешь», – и он закивал головой: и то правда, ну, склони головку русую, – и она наклонила голову, и он набросил на нее шнурок с образком трепещущими руками, и она почувствовала, как горячая слеза капнула ей на склоненный затылок, прожгла насквозь.
Они, наевшись, свернулись калачиком, уснули: маленькая в объятьях большой, как жемчужина в раковине. Среди ночи она проснулась, схватилась за грудь, вытащила из-под рогожи платья образок. Святой Николай, лысый, смуглый, печальный, в хитоне с черными крестами, в алом далматике, глядел на нее круглыми совиными глазами. Она перевернула иконку. На обороте рукой Мамы было нацарапано гусиным пером, коричневыми, как засохшая кровь, чернилами: «Моей любимой Стасиньке». Она прижала образок к губам и поняла, что слезы втекают ей обратно в глаза, насквозь прожигая мечущуюся, как штандарт на ветру, юную душу.
Сгореть в самолете – вот мука.
Сгореть в самолете – вот счастье.
Одна невероятная доля мгновенья – взрыв; даже не само мгновенье.
Ты не успела ахнуть. Не успела помолиться.
Твоя душа летит флагом на ветру, хвостом яркого огня, небесной кометой, и кто-то, там, внизу, с бедной земли, задрав лицо, обливаясь слезами, молится на тебя, молится тебе, молится кротко за врагов твоих.
А умалишенный полководец Хомонойа, там, далеко, в снежной широкой степи, в самодельном шалашике, похожем на юрту, выкармливал сразу двух детишек кобыльим молоком. Как попали к нему детишки? Внутренним зреньем он увидал, как их мать стреляет в иноземного важного генерала; ах, женщина, похожая на хрупкую маленькую девочку, тебя схватили, тебя тащат убить, и ты пытаешься убежать, и твой подземный лаз узок: в тебя стреляют у колючей проволоки, и в последний миг ты хватаешься за колючки руками, за верблюжьи колючки, за верблюжьи хвосты. А где твои дети, женщина?.. Брошены тобою твои дети. Ты бросила их для смерти, для Владычицы. Негоже. Я подберу детей. Я не дам им пропасть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу