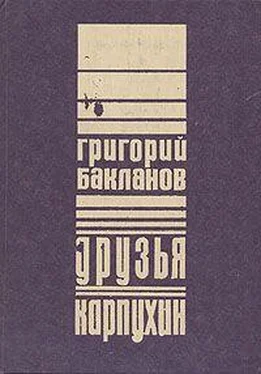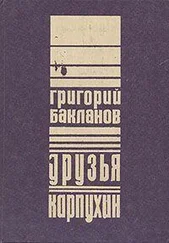— Не говори, пожалуйста! У меня нервная система!
Зина никогда никаких определений больше не добавляла: что ж еще можно добавить, если вся ее система — нервная?
— У меня вот сердце начинает биться…
— Ну что ты, Зинушка. Ну зачем уж так уж…
— Нет, но как ты после всего можешь еще жалеть? Так нам и надо за нашу простоту!
Сознание собственного благородства приятно было Виктору. Приятно было прощать.
Он не враз дал убедить себя, не сразу пришел к непредвзятому выводу. А когда заговорил, голос его был печален, трогателен и тих:
— Если отнять у человека руку, у него останется другая рука. Если отнять у человека ногу, у него останется другая нога. Без руки и без ноги человек может жить и даже функционировать. Но стоит сделать вот такую крошечную дырочку в сердце — и человек умирает. Эту рану он мне нанес.
И Виктор опять подоткнул шарф, сильней укутал себя.
В доме гасли окна. Погасла лужа на асфальте, как будто исчезла враз: это выключили настольную лампу, стоявшую на окне третьего этажа. Теперь светился там зеленый аквариум.
Виктор и Зина некоторое время еще прохаживались по переулку, оба тепло одетые.
Они прожили в этом доме девять лет. Они знали: скоро они переедут в другой дом, в лучший.
Борька позвонил в пятницу среди дня:
— Андрюха? Живой, здоровый и гениальный? Чего делаете сегодня?
Обычно в мастерскую Борька не звонил. И вообще без крайней нужды сюда не звонили.
Телефон был один, говорить приходилось от стола Полины Николаевны, она же очень беспокоилась, что именно сейчас, сию минуту Александру Леонидовичу потребуется позвонить. И потому, перестав печатать, сидела, держа руки наготове. Энергично ждала.
Теперь и заботиться было не о ком и печатать нечего; одна она сидела там, откуда ушла жизнь. И рада бывала, если заходили к ней поговорить. Среди всех служебных перемещений и назначений, которые совершались в мире, где и премьер-министров свергали и королей, одно-единственное тревожило и занимало ее целиком: кого теперь назначат руководителем их архитектурной мастерской. С этим вся ее дальнейшая жизнь была связана. Да и всех в мастерской это теперь волновало.
Различные были соображения, различные слухи циркулировали, называли Анохина. И когда сейчас позвонил Борис, у Андрея мысленно все сразу с этим связалось: что-то он узнал. И в глазах Полины Николаевны, смотревших на него, был немой вопрос.
— Ты что звонишь? Зайти хочешь?
— Нет, тут другое. Ты вот что прежде скажи: дети здоровы?
Если бы мысль не вращалась вокруг все того же, Андрей понял бы сразу простой смысл, который в Борькином вопросе содержался: тот хотел узнать, свободна ли вечером Аня, и потому начал с главного для нее — здоровы ли дети?
— Здоровы, здоровы. Давай выкладывай, что имеешь. Сообщай.
— Нет сообщить, пан. Пригласить. Конечно, я немолода, нехороша уже собой, и все же, все же… Вот если бы вы с Аннушкой смогли прибыть ко мне сегодня…
Андрей стал быстро вспоминать: день рождения? день свадьбы? Вот на что у него не было памяти! Впрочем, с днями свадьбы тут и запутаться не мудрено. А родился Борька осенью. Кажется, осенью. Аня это знает точно. На всякий случай спросил:
— Форма одежды?
— Чего-о?
— Скажи честно: тезоименитство?
— Я же в мастерскую зову! И вообще, когда зовут, приличный человек лапу к уху — и выполняет!
Испуг не испуг, а что-то в душе оборвалось:
— Борька, закончил?
— Не задавай суеверному человеку такие вопросы. Придете?
— Само собой.
До конца работы дожил в нетерпении: что же там Борька такое сотворил? По голосу, по всему его шутовскому тону чувствовалось: волнуется.
А у самого нескладно все шло в последнее время. Надо бы хуже, да уж, кажется, некуда. Отправил проект на конкурс, срок конкурса продлили. Известий, естественно, никаких, а слухов много.
Широкий жест Смолеева так широким жестом и остался. Ничего, кроме досады, из этого не вышло. Ему с тех пор не звонят, он пробовал звонить — не преуспел. «Когда есть цель, должно быть и терпение…» Эх, если б только в терпении дело!
К тому моменту, когда он вернулся домой, Аня была уже одета. И детям все распоряжения даны, и ужин оставлен. Его только ждала.
— Смотрите, как мать наша разнарядилась сегодня!
Аня стояла в передней у зеркала. Подняв обе руки к голове, закалывала шпилькой волосы. Спросила спокойно:
— Как же это я особенно разнарядилась?
Вообще-то, правда, все это Аня надевала не раз. Белый шерстяной свитер (он ей особенно идет), черная юбка джерси, белые короткие сапожки. Но так все сидит на ней, такая она сегодня в этом во всем! И глаза блестят по-особенному. Или он свою жену раньше не разглядел? Что-то ревнивое шевельнулось в душе. Оттого, наверно, и пошутил глупо:
Читать дальше