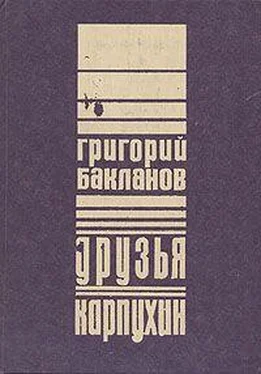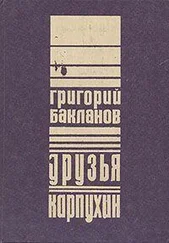Вот Галя искупалась, тело вздохнуло, и еще виноватей почувствовала себя: он там один, и вечный холод, ото всех его отделивший. Но даже и сейчас все еще он есть, не с ними, но здесь. А скоро его и вовсе не будет.
— Это ужасное сознание, что ничего не можешь изменить. Ведь вот только что, только… Невозможно привыкнуть.
Люда кусала мокрый платочек.
— Тебя он особенно любил, — сказала Галя, чтоб приласкать сестру, — я даже ревновала в детстве.
Звякнул телефон. Галя схватила трубку. С вечера ей не удалось соединиться с домом, а там у младшего мальчика и у дочери свинка, обоих она оставила с высокой температурой. Но в трубке опять был устойчивый длинный гудок.
— Ты когда позвонила тогда… Помнишь, в день рождения, — Люда кивнула на телефон, — у него как раз в тот момент что-то было с сердцем. Но мы не поняли. Все задним числом, все задним числом. Он был такой спортивный, здоровый человек…
— Со здоровыми так и бывает. Вот Кирьяновы… Да нет, ты не можешь знать, разве только от отца слышала. Когда Кирьянов женился, его теща была очень пожилая, больная, умирающая женщина. Все так и говорили: «Ей уже недолго скрипеть». И вот он жизнь прожил и умер, а она все такая же пожилая, очень больная, умирающая женщина. А здоровый человек…
— Мать, врач, не придала значения. Ах, как ужасно, как ужасно! — сказала Люда, потому что в этот момент опять увидела стол, как он стоял, широко раздвинутый во всю комнату от окна к дверям, и живого отца за столом. Теперь во всем этом ей виделась какая-то предопределенность, словно отец уже был незримо отмечен. — Ты говоришь, любил… Я отравлена ими на всю жизнь. Ты не знаешь, ты рано ушла из дому…
Так всегда говорилось в семье и считалось, что Галя рано ушла из дому, хотя она вышла замуж двадцати четырех лет, а Люда в неполных девятнадцать выскочила. Но между сестрами было тринадцать лет разницы, и когда Галя выходила замуж, родители были еще молоды. Потому и осталось так в памяти, что она рано ушла из дому.
— Ты это не можешь чувствовать, как я. При теперешней расчетливости, когда в гости зовут, а за этим дальние виды. Противно! Мерзко! Весь этот современный меркантилизм. Забыта простая радость гостеприимства, принять людей у себя в доме.
Только у нас всегда широко раздвигался стол, все на широкую ногу. Отец никогда ни перед кем… Гордость, достоинство! Кто бы то ни был, для него не имело значения. Он всегда это говорил. А таких отцов, таких мужей нет больше. Мне ни один муж никогда не будет хорош. Потому что я их жизнью отравлена. Мать никогда его не понимала. Я ей сказала однажды: «Был единственный муж на свете, так ты у меня его отняла». — «Да, говорит, он самый лучший. Но выходила я за мальчика избалованного и капризного». Ну ты ж ее знаешь. Её idee fixe.
Опять звякнул телефон. И опять тишина. Сестры сидели на диване тесно друг к другу, греясь общим теплом. И в этом соединявшем их тепле была часть его, которая в них продолжала жить. Теперь только в них.
Междугородный звонок раздался резко, обе вздрогнули. Галя схватила трубку.
— Да… Да… — говорила она приглушенно. — Вызывала, давайте… Павел? Я в во…
Не слышно, девушка! Павел? Я говорю, я в восемь часов заказала разговор. Вот именно… Вот именно… Мама? Мама как раз, ты знаешь… — Взглянув на дверь, за которой была Лидия Васильевна, она взяла телефон и с ним отошла в дальний угол комнаты, волоча за собой длинный шнур по ковру. — Знаешь, мама как раз не так ужасно, как я ждала. Потом скажется. Да… Как Соня? А Ванечка? Но вы смотрите, не опухает?.. Не на шее, я тебе говорила. Ты понимаешь, что я имею в виду? Он мальчик, это важно не проглядеть.
Была пауза. Галя слушала. Вдруг лицо стало замкнутым, заговорила она железным голосом:
— Не знаю. Пока не знаю.
Это муж спрашивает уже, когда она думает возвращаться. И Галин железный тон означал: мне неудобно сейчас говорить об этом, ты понимать должен.
Людмила курила, смотрела на сестру. Целый день её преследует запах мокрых хризантем и земли: запах похорон. Даже еда этим пахла, она не могла есть. Сейчас опять запахло. Она курила, чтоб отбить этот запах.
Галя здесь недолгий гость, побудет и уедет. А она, младшая, она останется. Горе у них общее, оно и свело. А жизнь у каждой своя.
Людмила глубоко затянулась сигаретой. О господи, господи!.. Папа, мама, милые, хорошие. И она — девочка с бантами… А потом наступает время, когда уже не папа и не мама, а — ты. Все — ты. И за все — ты. И за себя, и за свою девочку с бантами. И никого не спросишь, только себя одну. И сказать некому: у каждого своя жизнь.
Читать дальше