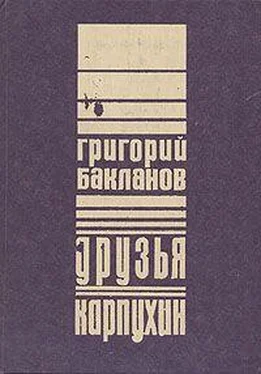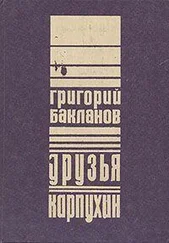От стола через спинку стула перегнулся к нему Смолеев, говорит что-то. И Николаев оживился. Они всегда в президиуме переговариваются друг с другом.
Рядом с Александром Леонидовичам — Кузовлева, директор трикотажной фабрики.
Мужского склада блондинка с накладной косой на голове, она всегда сидит торжественно-прямая, всегда записывает в блокноте. Что она там записывает?
Привыкнув с шуткой выходить из затруднительных положений и многое в шутку обращать, Александр Леонидович создал себе своего рода защитный механизм. С тонкими смешными подробностями, с иронией, прищурясь, рассказывал он об официальной стороне своей жизни и уже действия других людей заранее видел и оценивал в ироническом плане. Постоянным персонажем его рассказов была эта, пардон, ответственная дама с сооружением на голове, Кузовлева, которую он прозвал «летописец наших дум и дел». Тем почтительней бывал он с ней при встречах. И сейчас, наклонясь, хотел спросить с большой серьезностью, на сколько времени рассчитан доклад. Но тут вспыхнули юпитеры, застрекотала кино камера. И пока объектив направлен был в его сторону, думающее выражение сохранялось на его лице. Потом он вновь стал видеть вокруг себя.
Те, кого за столом президиума камера искала особо, как от мухи надоедливой отворачивались от нее, предоставляя оператору самому ловить момент. Другие и шею вытянут, и меж чужих плеч высунутся, и лицо сделают, а объектив все мимо да мимо.
Удовольствием Александра Леонидовича и завгорздравотделом Ленюшкина — они обычно рядом садились, — особым удовольствием двух людей, ценящих юмор, было наблюдать присутствующих. Неизменно радовал Сеченов, завгороно. Однофамилец великого физиолога был известен в городе еще и тем, что однажды, разволновавшись, запутался в многочисленных «анти» и с трибуны назвал чье-то выступление антипозорным.
Обычно в моменты киносъемок и фотографирования Сеченов совершенно терял себя.
Весь извертится, чтобы хоть краешком попасть в объектив, но такое уж его везение, что вечно он оказывался за чьей-либо спиной или за корзиной с цветами. Александр Леонидович представлял, как это происходит дальше: «Вон видите на фотографии корзина белых хризантем? Так за ней — я…»
Ленюшкин сидел за Кузовлевой, покусывал дужку очков, щурился, собрав морщины у глаз, Александр Леонидович ждал, когда погаснут юпитеры, чтобы спросить Ленюшкина будто невзначай (фраза сама уже обмаслилась в уме): «Вы не заметили, случайно, удалось все же бедняге Сеченову избегнуть объектива?»
Юпитеры погасли. Желтые, будто померкшие, горели люстры. Они разгорались постепенно, видней становился зал внизу, и странное волнение чувствовал сейчас Александр Леодидович. Встреча ли с Иванчишиным подействовала или та неуверенность, которую он испытал, когда, опоздавший, шел по гулкому фойе, а потом его чуть не остановили за кулисами, но пропустили, узнав. Всегда охраняемый положением, именем, он вдруг почувствовал беспомощность и страх: сейчас подойдут и скажут, что ему сюда нельзя. И надо будет выйти с позором. (Этот миг неуверенности он стоял с начальственно-нетерпеливым выражением, сверху вниз глядя не на подходивших к нему, а на пространство пола, которое их разделяло. И они это пространство не переступили.) Тем радостней, отдохновенней ощущал он себя сейчас в своей среде. Он был на своем месте и чувствовал это. В конце концов, он всей своей жизнью заслужил право. Он, может быть, и не построил и не создал многое из того, что хотел и мог, потому только, что добровольно принес себя в жертву. В молодости еще он признал над собой власть «надо». «Надо» — и он отрывался от дел. И, если хотите, это было тоже самоотречение.
Откуда вообще пришло это поветрие, и люди достойные начали чего-то стесняться!
Откуда эта неуверенность взялась в последнее время?
Он чувствовал, как привычные понятия обретают в его глазах привычную цену и смысл. И волновался.
Чуть наклонясь, он спросил Кузовлеву:
— Простите, Алла Кирилловна, сколько времени попросил докладчик?
Он решил в перерыве подойти, напомнить о себе в удобной форме. Быть может, следует послать записку и все-таки попытаться выступить в прениях.
Но Кузовлева, почему-то отстранясь от него, смотрела так, будто не понимала языка, на котором он говорит. И тут же высунулся Ленюшкин:
— Час пятнадцать.
Добрые глаза его жалко помаргивали, лицо пристыженное. Все это было странно.
Больше чем странно. И уж совсем непонятно, почему так нетерпеливо оглянулся на него Бородин.
Читать дальше