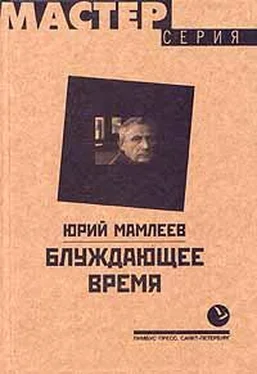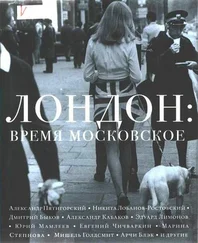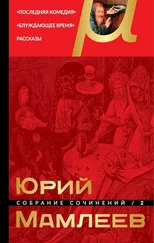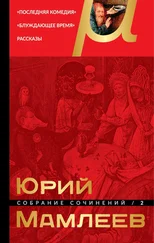Другой его особенностью была совершенно необъяснимая мания величия, настолько чудовищная, что даже кошки пугались, когда он на это намекал. Может быть, потому, что тогда даже его тело пронизывалось этим величием. Им, которым были недоступны человеческие понятия, и то становилось страшно. Когда Кирилла, например, какие-то люди называли самыми величайшими словами, которые только создал род человеческий (Бог, Абсолют, Брахма, Абсолютная Реальность), с теми он тут же порывал отношения, считая, что его принижают.
Тут уж без комментариев, не говоря о том, что многие шарахались от него в сторону, прямо отпрыгивали прочь.
Однако Орлов, усталый от хохота, когда ему рассказывали о людях, тем не менее отмечал, что, в сущности, Кирилл где-то прав, если понимать его в том смысле, что, на самом деле, самое высочайшее невыразимо в словах и мало соответствует тем понятиям, которыми бедное человечество тешило себя, пытаясь познать абсолютно Глубинное.
Но в каком смысле надо было в действительности понимать Кирилла – никто не знал.
В остальном же это был на редкость скромный человек. Старушек в троллейбусе никогда не забижал, был слаб на милостыню, особенно по отношению к инвалидам; если его толкали, к примеру, в метро, то сам извинялся первый, не дожидаясь извинения толкуна. Чего в нем не было, так это эгоизма: последнее отдаст человек. Зарабатывал он пением и уроками. Если один друг Никиты хохотал, так этот – пел. Конечно, не так часто, как Боренька хохотал, и пел он вовсе не приступами, а нормально, но все же отличался тем, что пел во сне. Это была его единственная вредная привычка.
Баб у него было много, но он ни на ком не задерживался долго: прогонял.
Терпеть не мог, чтоб была «единственная», и вообще повторял, что роль женщины в его жизни сведена к необходимому, но минимуму.
Некая Наташа, одна из тех, кто претендовал на «единственность», уверяла, что проблема в том, что женщинам якобы трудно адаптироваться к его мании величия, так как повседневная жизнь включает явления, которые исключают величие. Когда ей замечали, что в повседневной жизни Кирилл вовсе ничем и не выражает свое величие, считая такую жизнь за пустяк, она отвечала, что хотя он и не выражает, но это невидимо и тайно ощущается, тем более, женщины чувствительны к мании величия и не любят ее в близких.
Так или иначе, по жизни Кирилл был сама скромность и даже тихость.
Голос был тоже тихий, и квартира его – тихая, затаенная, точно в ней поселилась бесконечность.
Вот туда-то, в такую тишину и направились Егор с Павлом.
По дороге зашли в бар, на Тверской. И, сидя в отъединенном углу, в полумраке, Егор отрешенно заметил:
– Ты, надеюсь, понял, из всего, что рассказывали о Никите, особенно этот Боренька, хохотун, одну вещь…
– Понял. Какую ты думаешь?
– Никита считает, что он попал в мир мертвых.
– Конечно. И я, в сущности, рад этому. Хорошо, когда тебя принимают за умершего.
– Тут ведь еще такой момент. Он пришел из будущего в далекое прошлое. Значит, и с этой точки зрения, мы для него – умершие.
– С этой или с другой, но он точно принимает этот мир в целом за владение мертвых. И ему жутко от этого. Все в нашем мире вызывает в нем ужас. Он не может смотреть даже, как мы едим, ибо тяжко видеть пир мертвых, еду трупов.
Никита действительно думал так.
По многим причинам он был в этом абсолютно убежден. И тяжело ему было смотреть в глаза детей и людей.
Все, что происходило на этой планете в нашу эпоху, вызывало в нем именно такое чувство. Находясь в толпе, на центральных улицах Москвы, где много иностранцев, он удивлялся многообразию мертвых. И смех Бореньки поражал его как открытие: оказывается, труп может так смеяться, так глубинно, до самого нутра, уже, правда, пустынного, так заливно! И любил Никита Бореньку за это, души не чаял в нем.
Удивляла его и тяга мертвых к наслаждению. Но когда кто-нибудь из них умирал – тут Никита порой становился в тупик, но не особенно. Он считал, что смерть – это длительный и сложный процесс, со многими стадиями, перерывами, даже оживлением, и обычную нашу смерть он чаще воспринимал лишь как один из этапов. Причем почему-то считал, что здесь происходит, наоборот, некоторое оживление, гальванизация, смерть шиворот-навыворот. Он был очень чуток в этом отношении.
Трудно было ему, а по большей части и невозможно, передавать людям свои мысли, знания, и глубь. Тут он только барахтался, но никаких выражений ни в чем не находил. То, что было в нем, то, что он помнил и знал оттуда, жило в нем одинокой чудовищной глыбой, ходячей заполярной Вселенной, которую он ни с кем не мог разделить. Он пытался иногда, издавал какие-то звуки, искал нужные слова в огромных словарях (но там таких слов, явлений и понятий и близко не было), порой прыгал, дергался, пытаясь патологическими движениями выразить то, что он хотел. Все было бесполезно. Естественно, его принимали за сумасшедшего обычные люди, но где-то он и действительно сдвинулся после того, что с ним произошло там, да и здесь. Правда, кое-что он мог бы вполне выразить на языке того времени, в которое он попал, но он не хотел: ибо вне связи с остальным это было бы нелепо и тотально искажало бы картину. Но иногда у него вырывалось…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу