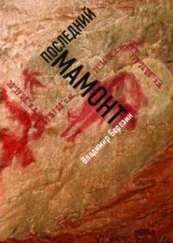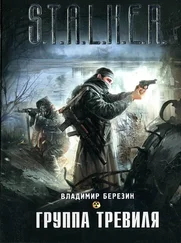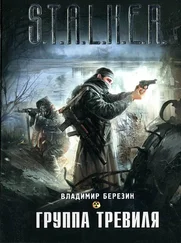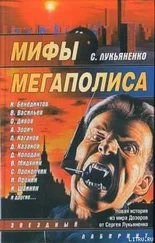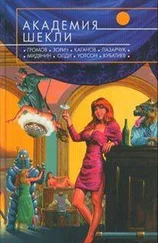Я слушал Сидорова и верил каждому слову.
Сидорова расстреляли лет десять назад. Он лежал, раненный, на асфальте привокзальной площади в чужом южном городе. Он был ранен и тупо смотрел в серое зимнее небо. Тогда к нему подошли и выстрелили несколько раз – а потом пошли к другим. Одна пуля попала в рожок от автомата, что был спрятан у него под бушлатом, а другая пробила его насквозь, вырыв неглубокую ямку в асфальте, – он дожил до вечера, пока его по случайности не нашел сослуживец и не вытащил на себе.
Сидорова долго лечили, а потом погнали из армии как инвалида.
Он собирал себя по частям, как дракон собирает разрубленное рыцарем тело. Потом он начал класть полы в небедных домах, вставлять немецкие окна и крепить в этих домах итальянскую сантехнику. Иногда ему казалось, что хозяева этих домов – те самые, кто недострелил его тогда, в первый день Нового года, и поэтому я знал, что со смертью у
Сидорова свои отношения. Для него там никакого бы Ивана Павловича не нашлось.
Поэтому я представил своего деда, что сгорел в воздухе, – я представил, как он засыпает и хрипят в наушниках голоса его товарищей. Дед, наверное, не слышал этих голосов, когда небо крутилось вокруг него, а земля приближалась, увеличивая дымы и рытвины окопов.
Но деда похоронили на Кубани, я видел его имя на бетонном обелиске.
С ним все произошло правильным образом.
– Пошли глухаря-то есть, – прервал эти размышления Евсюков.
Мы сели вокруг котла на улице. Стол был крив, да и мысли были не прямы.
Помянули Семена Николаевича, а после третьей и вовсе пошло легче.
– В старом глухаре есть что-то от кабана, – сказал Сидоров. – В том смысле, что жесткий. Он – как кабан.
– А мне нравится, он елкой пахнет. Смолой то есть… – Евсюков хлебал свое жирное красное варево. – Ты ешь, ешь, Вова, – я тоже сначала в сомнении был, а сейчас ко всему привык. Главное, людей любить надо, а живых или мертвых – дело второе.
– А что у нас с властью – ну там менты разные? Что военком?
– Да ничего военком – мужик он хороший, да бестолковый. Ему выписали денег под праздники, он старикам наручные часы накупил да тем дела и закончил. Он про меня знает, не мешает, не вмешивается – я бы сказал, грамотно поступает. Что, нам нужно, чтобы привезли пять первогодков, чтобы они три раза палили над могилой? Нам не надо, и
Семену Николаевичу не надо. Наше дело скромное, тихое. Мы по душе дела улаживаем.
Календарь с треском рвался на пути от первых майских праздников ко вторым.
Наконец мы двинулись в обратный путь и взяли с собой Ивана Павловича
– до города. Там ждали его дела и какие-то нам неизвестные родственники. Ночь катилась к рассвету – и круглая фара луны освещала наш путь. Закрыв глаза, я думал о том, что леса наших стран полны людей, недоживших свои жизни. И земли вдоль великих рек полны воинов, превратившихся в цветы. Пройдет век, народы сольются – и ненависть сотрется. Этой ночью мертвые спят в холодной земле
Испании и проспят холодные зимы, пока с ними спит земля, и будут просыпаться, когда придет майское тепло. Они спят на Востоке, под степным ковылем, со своими истлевшими кожаными щитами, зажав ребрами наконечники чужих стрел. И пока они спят беспокойно и тревожно, то думают, что их войны еще не кончились.
И золотоордынцы с истлевшими усами, чернявые генуэзцы, русские и литовцы спят вповалку, потому что никто не знает места, где они порезали и порубили друг друга.
И в глубине морей, растворившись в соленой воде, их разъединенные молекулы только дремлют, пока кто-то не простился с ними по-настоящему…
Вдруг Евсюков резко затормозил – все отчего-то сохранили равновесие, один я больно ударился головой. На мгновение я подумал, что нас провожают черные копатели – точно так же, как и встречали.
Но жизнь, как всегда, была тверже.
Прямо на нас по безлюдной дороге надвигалась темная масса.
Черный немецкий танк, визжа ржавыми гусеницами, ехал по русской земле. И сквозь броню на башне, дрожа, светила какая-то звезда.
Часть дульного тормоза была сколота, но танк все же имел грозный вид.
Фыркнув, он встал, не доехав до нас метров десять.
Из верхнего люка сначала вылез один, а потом по очереди еще три танкиста.
Они построились слева от гусеницы. Мы тоже вышли, встав по обе стороны от “Нивы”.
Старший, безрукий мальчик в черной форме, старательно печатая шаг, подошел к Ивану Павловичу, безошибочно выбрав его среди нас.
– Господин младший сержант! Лейтенант Отто Бранд, пятьсот второй тяжелый танковый батальон вермахта. Следую с экипажем домой, не могу вырваться, прошу указаний.
Читать дальше