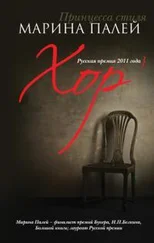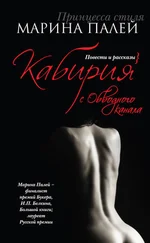Иудовича в дружескую Алеманию нецелесообразной. Кто за?.. Кто против? Кто воздержался? Единогласно".
…Они поступили со мной гуманно: дали мне казнь на выбор. Как
"живущий в обществе и несвободный от общества (раб)" я должен был проползти сквозь строй Всесветлого Презрения и Осмеяния. А как
"свободный гражданин свободной страны" (диалектика казуистики – казуистика диалектики) – мог выпить чашу с ядом. Я выбрал, разумеется, чашу. Сделав это, я вспомнил слезливых учеников
Сократа, которые, разнюнившись, взялись наматывать сопли на кулак, плаксиво отговаривая своего Учителя от не вполне разумной, с их точки зрения, затеи. Однако Сократ твердо сказал: "Но мне же будет подарен сон! Сон, понимаете? А что может быть слаще сна?.." Что может быть слаще сна, ни тугодумы, ни даже самые пытливые из его последователей не знали. Поэтому, хорошенько высморкавшись, они согласились.
…Когда ко мне, стоящему в луже на четвереньках, медленно приблизился жрец Приводимого в Исполнение Приговора – седовласый упырь, несший в унизанных перстнями перстах просторную золотую чашу (в ней, когда он склонился ко мне, всплеснулась смарагдовая, разящая клопомором жидкость), – и только в тот миг я с некоторым удивлением узнал в нем профессора этики и эстетики. "Повезло же мне!" – подумал я под конец. С этим смешанным чувством удивления и нечаянной радости я проследил, как он бережно ставит передо мной, в лужу, бесценный фиал с освобождающей навек аквой-тофаной, и, приникнув, жадно вылакал все до конца.
ЧАСТЬ III
ВОСПОМИНАНИЯ О БЕРЛИНЕ, ПОТСДАМЕ – И В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ О ПЕТЕРБУРГЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. АУТ
"МЫ ПРОЛЕТАЕМ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ПОЛЬШИ…"
Салон самолета…
Я спал?
"МЫ ПРОЛЕТАЕМ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ПОЛЬШИ…" – повторяет голос пилота.
Я гляжу в иллюминатор… Голубой воздух абсолютно прозрачен… Видно все до самого дна… Сверкает солнце…
Наверное, это и есть клиническая смерть.
Или биологическая – one way ticket^18.
Я не могу сдержаться, я плачу. Мне тридцать девять, и я – свободен.
Я НАКОНЕЦ СВОБОДЕН! Ибо голос сказал: пролетаем. Не "проезжаем",
"проходим", "проползаем" – даже не "проплываем", – а именно
"пролетаем". А заложенная в этом слове безвозвратность, финальный обрыв всех связей с Землей, полная отрешенность – все это относится только к душе… К анонимной уже душе, лишенной земных вех и примет…
Нет! Это еще моя душа!
И, значит, под конец, мне все-таки удалось.
Мне будут показывать.
Мне разрешили.
И я увижу.
Клеменс, ты знаешь, что я лечу к тебе? Ты, конечно, не знаешь. И мне не странно, что для того, чтобы увидеть тебя, надо совершить такой сложный обряд – сродни инициации.
…Сначала я брел бесконечными коридорами, задабривая полчища мздоимцев и крючкотворов, засевших, как нечисть, во всех щелях и норах, во всех мрачных своих чертогах, задабривая полчища мздоимцев и крючкотворов, как тот, кто брошен в клетку с хищниками, пытается оттянуть естественную развязку, и вот я задабривал полчища мздоимцев и крючкотворов бакшишем, хабарой, борзыми щенками, байками, бойкими речами – и все это, Клеменс, ради тебя, было мне по карману, по силам.
Но когда все это кончилось, то есть кончилось все припасенное для них мясо, я отсек ножом мяса от своей икроножной мышцы и швырнул его своре. Ублюдки, они, урча и воя, набросились на этот кусок, а я прошмыгнул дальше.
Я прошел "сквозь строй янычар в зеленом", как и положено по ритуалу,
"чуя яйцами холод их злых секир" и делясь с ними по-братски (обряд неискреннего братания) своими сигаретами. Ну а потом меня подняли на высоту десяти тысяч метров. А иначе к тебе ведь не попадешь, Клеменс!..
И повезло же мне: меня – живого! – бережно доставят к тебе, в странное твое измерение, а могли бы и прахом развеять над территорией объединенной Неметчины. Эк хватил! Да кто ты такой, чтобы с прахом твоим тютькаться? Так, дыхание "разошлось бы по миру", то есть в пределах помещения, где назначено было бы околеть, – скорее тяжелое дыхание, нежели легкое, – этим бы и обошелся.
А ведь успел! И не старый еще! А те упыри? Они бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги , – как пишет, если ему верить, классик.
Читать дальше