Валерий Попов
Горящий рукав
Роман
Любой человек, живущий на земле, – писатель. Надо не только прожить свою жизнь, но и запомнить ее, полюбоваться – или оправдаться. Никто не упускает такой возможности и вечером перед сном выстраивает прожитый день по-своему, вспоминает, как он попал в западню, но выбрался, как мог сподличать, но не сподличал, как сначала проигрывал, но потом собрался и победил. Обидно засыпать, а тем более – умирать, не прочувствовав, не полюбив и не оправдав свою жизнь. Любой человек – писатель.
Почему, независимо от возраста, нас посещают порой странные, удивительные ощущения? Ты стоишь, парализованный этим ощущением, вернее – сладко спеленутый им, и чувствуешь – вот это состояние твое и все, что с ним связано, ты будешь ясно помнить до гробовой доски.
И для того эти блаженные видения-оцепенения и посещают тебя, чтобы ты мог вспомнить их в конце жизни и сладостно выдохнуть: "Я жил!"
Я не знал еще никаких слов, а тем паче таких, как "тайна",
"глубина", но именно это я чувствовал – и понял, и запомнил! – пятикилограммовым кулечком лежа в плетенной из прутьев коляске и глядя вверх, в бездну, в темноту. С ужасом, который потом как-то стерся, я чувствовал тогда, что эти чуть видные, слабо мерцающие звездочки и есть самое близкое, что находится в этом направлении, и никакой там опоры больше нет! О том, что нечто дружественное и теплое находится рядом, я не знал в эти мгновения или, вернее, забыл. Помню скрип, холод, вкусное мое дыхание с облачком пара, белые холмики. Зима. Неужели – первая в моей жизни? Помню проезд вдоль дома с освещенными окнами и уже – готовность к тому, что сейчас стена дома оборвется и наступит бескрайняя тьма. И – первое ощущение твердости характера: погляжу – и не испугаюсь! Видал уже!
Ощущение активности, силы ума и характера – хотя, наверное, я был спеленут тогда и пошевелиться не мог. Но отпечаталось – первая победа! Все ясно сразу и потом только подтверждается.
И горе от твоей отдельности, от того, что ты один, отделенный непреодолимой преградой даже от тех, кто горячо любит тебя, – тоже проявляется сразу и очень сильно.
Я (видимо, убежав из яслей) стою на дне оврага, передо мной поднимается стена тускло блестящих, плотных, глянцевых листьев, а на недосягаемой (я это с грустью чувствую) высоте из стеклянной, с деревянными рамами террасы высунулась моя любимая бабушка и, озабоченно шевеля губами, скребет ложкой в кастрюле… сейчас выплеснет на меня? Сердце мое сжимается от горя – я не только не могу сейчас соединиться с ней, но даже крикнуть, что я здесь – не имею права. Первый опыт социальности, невозможности выполнения самых страстных желаний, и – предощущение неизбежной вечной разлуки? Слов таких я еще не знал, но горько ощущал все это.
Все самые важные вещи являются еще тогда, и тот, кто не запомнит их, отмахнется, – ничего не почувствует и потом.
И все сладкие телесные ощущения, которые потом мучают и услаждают нас, есть уже и тогда, когда коляска твоя еще не выброшена из дома.
Есть уже и предощущение запретной сладости, та перехватывающая дыхание волна, которая несет тебя, переворачивая и крутя, по всей жизни, – и лучшей волны нет. Так не упускай же ее!
Я сижу в ванночке, в комнате у печки, и на фоне гаснущего окна темнеет большими листьями кривой фикус, рядом несколько темных человеческих фигур. Судя по тому, что я не чувствую никакого волнения, а лишь покой и уют, фигуры эти теплые, мягкие, ласковые, уже знакомые мне и дарящие удовольствие. Помню мутно-серую мыльную воду в серой "звездчатой" цинковой ванночке и тревожное ощущение остывания воды, ухода блаженства. Отчаяние – я не могу даже самым близким людям объяснить это: не могу еще говорить! И – помню ликование: мир внимателен и добр, меня любят в этом мире! Бултыхание струи кипятка, пар на окнах, грубовато-ласковое движение распаренной руки, сдвигающей мое слабое тельце в сторону от струи. Но я и сам энергично-весело подвигаюсь, но не слишком, чтобы чувствовать горячую струю через подушку воды, двигаюсь туда-сюда, чтобы найти точку, где граничат ужас и блаженство, – я уже чувствую, что именно там лучше всего. И не поймав точку тогда, не поймаешь и после.
Восторг поднимается во мне, и выплывает изнутри еще одно желание – более опасное и запретное, чем ожог кипятком, и оттого еще более заманчивое. Я как бы безразлично, но зорко слежу за перемещением темных фигур на фоне окна, и когда их расположение отчасти успокаивает меня (отчасти, но не совсем, элемент некоторой опасности необходим) – я решаюсь. Мои маленькие внутренности напрягаются, и струйка пузырьков, протискиваясь, ласково щекочет мою расплющенную дном ягодицу, потом ногу. И – самый острый момент – пузырьки с легким бульканьем выходят на поверхность. Я не поднимаю глаз, но стараюсь понять – заметили? Да! Что-то ласково-насмешливое слышу я: меня не просто заметили, но и оценили мой озорной поступок и веселый характер. Как я мог тогда показать его иначе? Но показать спешил.
Читать дальше
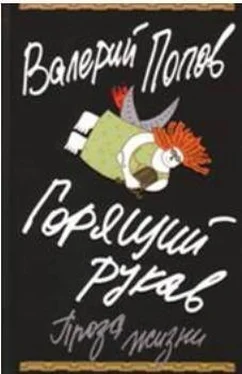

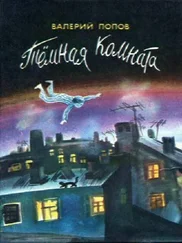
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
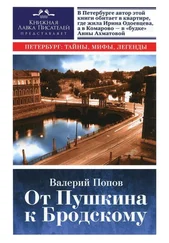
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)