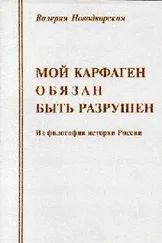На слово «длинношеее» приходится три «е»,
Укоротить поэта: вывод ясен,
И нож в него, но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен!
Высоцкий тоже был поэт и тоже не кончил добром. Из всех великих русских поэтов тюрьма, сума, беда, ранняя смерть, Голгофа миновали только Тютчева.
Конечно, Пушкин держал в руках фиал со скандинавской традицией. Отсюда его вечные насмешки, подначки, ересь, диссидентство, тяга к вольности. Отсюда «Пир во время чумы» – месседж русского западника, почище Чаадаева. Но и славянское начало было сильно в нем, иначе не видать бы нам «Руслана и Людмилы», попов и их работников, стихотворных сказок, «Вещего Олега». Это не заемное, это органика. И традиция Дикого поля, хмельная, беззаконная, разгульная, разбойная, бурлила в его жилах. И дело даже не в разбойниках, и не в литвине Будрысе, посылающем сыновей пограбить, и не в живописных «бандюках» из песен южных славян (почему-то названных западными). Без Дикого поля было не создать «Капитанскую дочку», не понять Пугачева и не ужаснуться сродству. Отражением этой традиции в холодном зимнем небе России пролетели бесы:
Мчатся бесы, рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…
Но и темное золото византийской традиции не миновало его. Иначе не было бы «Полтавы», не было бы «Бориса Годунова», не было бы тех поощрительно-имперских стихов («Клеветникам России», «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю»), которые вменяли ему в вину и Мережковский, и поляки, и литовцы, и нигилисты, и «современники» типа Белинского или Писарева, и, конечно, будут вменять потомки. Часто традиции хватают друг друга за горло прямо в его произведениях. В «Капитанской дочке» традиция Дикого поля идет с дубьем и вилами на византийскую и принимает от нее казнь; в «Медном всаднике» славянская гуманитарная традиция говорит «Ужо тебе!» в адрес коалиции скандинавско-византийских сил и лишается рассудка. И только ордынская традиция лишь чуть-чуть задевает Пушкина своим черным крылом. Традиция порабощения и диктатуры, она не для поэтов. Когда Маяковский понял, что она его подмяла, он не вынес и застрелился. А Пушкин был распят на кресте четырех традиций, и это в конце концов убило его. А вовсе не «самодержавие» и не «светское общество», как нас учили в школе. Стихи Пушкина прекрасны, но в них нет ни покоя, ни самодовольства, ибо они – поле битвы. Через них проходит нелегкая и неторная дорога Русской Судьбы.
Но Пушкин не был карбонарием и не был приписан ни к какому полку, даже к декабристскому. Советское литературоведение, прямой наследник идеологических критиков вроде Белинского и Добролюбова (Павка Корчагин им товарищ), лет 70 выясняло, почему Пушкин не пошел к декабристам (вот и Мережковский в том числе его упрекал). Подумаешь, бином Ньютона! Не хотел идти, потому и не пошел. Заговорщик должен быть занудой, а Пушкин занудой не был. Его свобода – не бремя, а праздник. Для личного пользования. Он не мог спасать Россию дольше двух часов в день. Конечно, знакомства, честь, сочувствие к идеалам заставили бы его и впрямь выйти на Сенатскую, будь он в Петербурге 14 декабря. Здесь он Николаю I сказал правду. И Николай съел этот прикол и не наложил взыскания. (А представьте, что К. Симонов говорит даже не Сталину, а Брежневу, что он мог бы вступить в РОА, в армию Власова!) К счастью, его в Петербурге не было (заяц по дороге помешал: спасибо ему, косому! Не заяц, а дед Мазай). Представьте себе Пушкина на Сенатской. Сначала он бы наслаждался пафосом минуты и декламировал стихи. Через два часа ему стало бы холодно и скучно. Потом он бы пошел в ближайший трактир. Царя он бы поставил в очень неловкое положение. Как посадить Пушкина и как не посадить инсургента?
Пушкин примеривал на себя роль Андре Шенье, он мог бы взойти на эшафот:
Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует.
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует…
Плачь, муза, плачь!..
Умереть в чистом поле – это нормально для дворянина, храбреца, повесы. В конце концов, Пушкин так и умер. Красиво умер. Но эшафот и дуэль – одно, «брань, сабля и свинец» – это тоже сойдет, у Пушкина в «Полтаве», в околобородинских стихотворениях и славянских песнях столько батальных сцен, что читателю так и хочется в гусары или уланы завербоваться. Но вот рудники и крепость – это было не для Пушкина, он бы не снес. Не вижу его даже на облегченной царской каторге, не вижу его в ссылке, не вижу его в каменном мешке. Его удел – красота, роскошь, бальные залы, шикарные ресторации, каменные кружева Петербурга, стихи, шампанское, театр, красавица Натали. Все-таки Николай I имел в себе нечто человеческое. Ему зачтется. Из ссылки вернул, деньги подкидывал, глаза на подрывные стихи закрывал, даже мундир пожаловал, чтобы Пушкиных пускали на придворные балы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу