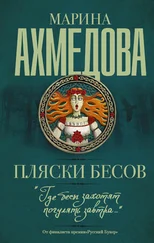Пусть останется только надежда.
Наби Хазри
Новость, всколыхнувшая небольшую улочку за мечетью Таза-пир, была подобна пожару, раздуваемому ветром.
Гаранфил выходит замуж!
Длиннокосая Гаранфил, тоненькая, с тихими, бездонно темными глазами на нежном, легко розовеющем лице… Когда она шла по улице со стареньким портфелем и ветер вскидывал над плечами крылья школьного фартука, озорно обтягивая еще по-девчоночьи острые грудки, самые хулиганские мальчишки, присмирев, провожали ее долгими, беспокойными взглядами. Вздыхая, переглядывались старухи, похожие на ворон в своих низко надвинутых черных келагаях. «Салам алейкум», — тихо говорила соседям Гаранфил и краснела, пряча глаза за мохнатыми ресницами. «Алейкум салам, доченька, — отвечали соседи, — да будешь ты утешением своей матери». И снова вспыхивала Гаранфил, чуть приоткрывая в сдержанной улыбке яркие, будто накрашенные, губы.
Маленькая, тесная улочка, карабкающаяся от мечети в гору, не имела почетного названия — просто Параллельная, Третья Параллельная. Когда кто-нибудь с соседних улиц искал керосиновую лавку или старую Сарию, промышлявшую всякими целительными снадобьями из трав — от дурного глаза, от колик в животе или бесплодия, — люди говорили: «Это там, где живет Гаранфил».
Вот какая красавица была Гаранфил. Случалось к ногам ее, обутым зимой в резиновые ботики с бархатными отворотами, летом — в босоножки на деревянной подошве, летели из подворотни записки с пылкими признаниями влюбленных мальчишек. Но ни разу не нагнулась, не подняла записку Гаранфил; она только убыстряла шаги и краснела. Даже пробор в туго стянутых над чистым, округлым лбом волосах делался розовым. Когда сын сапожника Муса — у него одна нога была короче — из-за этого его и на фронт не взяли — начал вдруг вечерами играть на дедовском таре, вся улица знала: для Гаранфил играет Муса. «Выйди, выйди, душа моя, — пел Муса, — свет глаз моих, ослепших от тоски по тебе». Замирали притаившиеся в темени дворы, слушая, как стонут и плачут струны под пальцами Мусы.
«Бедный, он заболеет от любви, — судачили женщины. — Кто прокормит тогда братьев и сестер… Отец на войне пропал… В золотые руки дело отца перешло».
Негромкий, глуховатый голос то замирал, то взвивался, как от боли.
«Выйди, выйди, джейран мой, прекрасная, как луна… В сердце моем умирает даже надежда…»
Но ни разу не вышла за ворота Гаранфил, даже отворачивалась, завидя издали стройного, чуть прихрамывающего парня в большой, с чужого плеча телогрейке. Правда, сапоги Муса носил дорогие, из настоящего хрома, — сам шил. И отпущенные усы очень шли его худощавому, скуластому лицу. Да что толку? Сколько ни смотри в узкое, всегда плотно занавешенное окно Гаранфил, даже кончика бровей не увидишь, только разве взглянешь на нее, когда из школы идет, скромно опустив свои прекрасные, лучистые глаза.
Безусые сверстники Гаранфил почти все уже работали, кто на заводе, кто на промысле или на стройке; в каждой семье теперь недоставало кормильца. Вечерами они собирались под единственным деревом на пыльной улочке, старым тополем, курили потихоньку от взрослых, пряча в кулак самокрутки, переговариваясь осипшими от усталости голосами.
— Вот кончится война, придет отец… В мореходку пойду. Большие деньги в море платят. И тогда… — Эльдар с непривычки давился табачным дымом.
Керим больше помалкивал. Он до седьмого класса учился вместе с Гаранфил, а теперь работал на промысле, иногда в две смены. Привалится к дереву, закроет глаза, не поймешь, спит или о чем-то думает.
Главным в компании был Музафар — он учился на шофера. Важно сплевывая вязкую, горькую от курева слюну, все жаловался на своего инструктора: «психованный старик». «Старику» было тридцать лет, он приходился Музафару дальним родственником; собственно, он и пристроил мальчишку в транспортную контору.
— Я уже и сам могу за рулем — не дает. Рано, говорит. Это все мать, бегает, просит — «побереги сына». Женщина, она и есть женщина, ей разве объяснишь… Скорей бы отец вернулся, вот тогда…
Остряк и задира Мурсал, посмеиваясь, читал ругательные стихи про Гитлера, которые сам сочинял, — один раз его даже в заводской многотиражке напечатали, и захватанная эта газета обошла все дворы их улочки. Мурсал даже про Гаранфил сочинял стихи.
Гаранфил, эй, Гаранфил!
На всю жизнь тебя полюбил,
Пусть никто тебе не мил,
Моей будешь, Гаранфил,
Читать дальше