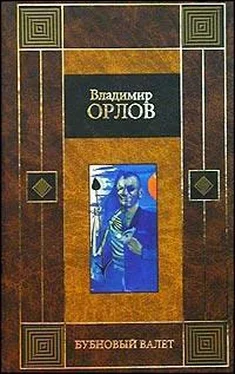Я открыл дверь в квартиру. Свет не горел ни в прихожей, ни в кухне, ни в туалете. Я толкнул дверь в нашу комнату.
– Наконец-то! Явился! – сказала Цыганкова. – А я уж думала, что ты увильнешь.
– От чего?
– От меня. От неизбежного.
– Я беру ключ и буду ночевать в сарае. У нас есть дровяные сараи.
– Я все знаю про ваши дровяные сараи. Ключ твой я проглотила. Вот пощупай, он у меня в пищеводе.
– Мы так не договаривались…
– Мы так с тобой договаривались пять лет назад. Или четыре…
– Я не помню.
– Вспомнишь.
– Как мне тебя называть? Юла? Юлика?
– Раньше ты меня называл Юлой. А Юлика? Давай попробуем Юлику…
Она раз десять произнесла, каждый раз меняя темп, ритм и интонацию, имя “Юлика”, и все произнесения ею звуков были для меня хороши.
– Ладно, Юлика, – согласилась Цыганкова, – хотя в этом есть что-то венгерское и опереточное. Юлика. Ну, Юлика. А лучше все же – Юла. Дверь я запираю. Ты будешь любить меня. А я – тебя.
Она была в стареньком матушкином халате, естественно, ей коротком, да и двух пуговиц сверху не хватало, и я мог видеть ее грудь. Она попросила меня расстегнуть и остальные пуговицы.
Обхватив руками мою шею, она сказала:
– А баня у вас хорошая. Грязная в предбаннике, но пар в ней замечательный. Шайки бросали татарки. С эвкалиптовым листом.
Мы совпали. Всю ночь мы были ненасытными и совпали. Такое прежде со мной не случалось. Но случилось. В нас совпало все. Мы были одно существо. Одно животное. У нас было одно тело, одна кожа, один запах. Юлика уставала быстрее меня и отходила к окну покурить, ночь была лунная, и Юлика стояла серебряная, я лежал не в силах встать и ощущал, что я обрублен, что часть моя, и самая существенная, отделилась от меня на три метра, на три континента, и если сейчас она не вернется, не воссоединится со мной, я погибну. Я умру. Но она возвращалась, и у нас опять все было одно – губы, глаза, ресницы, нос, язык, ноги, ногти, кожа, и мы были слеплены Богом, и разлепить нас ничто не могло. Случались минуты, когда природа заставляла нас отдыхать, и мы произносили какие-то слова. Все это была чепуха, и я сознавал, что самую любимую, самую беззащитную, самую сладкую часть моего тела и моей души никто не отберет. Юлика о способах любви знала больше, чем я, она бормотала: “Я взрослая женщина, но ты – ребенок”, я стонал: “О, если б навеки так было!”, Юлика целовала меня и спрашивала:
"Родной мой, о чем ты стонешь?” Я успокаивал ее: “Это не я, это Мирза Галиб…”
Мы все же заснули. Часов в восемь утра. В одиннадцать меня разбудил стук в дверь. Я повернул ключ, дверь приоткрыл чуть-чуть, чтобы не дать соседу Чашкину рассмотреть спящую Цыганкову.
– Тебе дама звонит, и не первый раз, – удивительно: Чашкин говорил шепотом.
Звонившая оказалась соседкой по даче моих стариков. Она прикатила в город за продуктами. Мне же она передавала просьбу срочно приехать в сад-огород. Плохо с матерью, сердце, очень может быть, что ее нужно везти в Москву, к врачам. А если нет, то все равно необходимо доставить родителям продукты на неделю.
– Ну твоя… эта… двоюродная, – сказал Чашкин, – хороша… А что у нее на голове?.. Пятнадцать суток схлопотала, что ли?
Мать Чашкина, в молодости – дама легких поведений, потом – наша дворничиха, была квартальной милицейской осведомительницей, и потому Чашкину надо было сообщать достоверные сведения.
– Она пловчиха, – сказал я. – Кандидат в мастера. Брасс. И спина. Ее в сборную, может, возьмут.
– А-а. Понятно, – успокоился Чашкин. – А я-то подумал… Так ее небось в институт примут без конкурса и задаром… А она здоровая, я же не знал, что пловчиха, она полы мыла, даже туалет отдраила, я вижу – тело у этой провинциалки будь здоров!
С Чашкиным мы были недруги, но даже его похвала моей гостьи сегодня вышла мне приятной. Не знаю, почему Юлька свое тело порой упрятывала в балахоны и угловатые движения, пользуюсь выражением моей матери – тело она уже нагуляла. И оно было прекрасное.
– Я тебя люблю, – сказал я Цыганковой. – И у нас с тобой все единое.
– Да, – сонная и голая, она стала приподыматься на локтях в постели. – У нас с тобой одна душа, одна кожа и одни ноздри.
– Насчет ноздрей я не уверен.
– Ну, значит, один рот и один аппетит. И ты сейчас меня накормишь.
– Яичница. С колбасой. И “Тетра”.
– Прекрасно.
– Тебе восемнадцать?
– Подсчитай сам.
– Мы с тобой распишемся.
– Ты дурак, что ли? Нет, ты все же ребенок. Распишемся! А мне это надо? Папаша застрелится, сестра застрелится. Одна мать будет плясать и смеяться… Но она тебя и любит… И ты ее… А я старая грешница… Я уйду в монастырь… И мне надо опекать забиваемых…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу