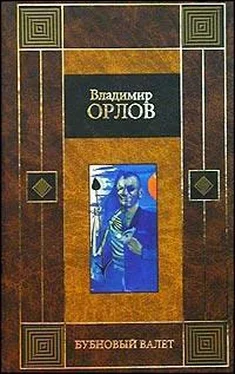С Глебом Аскольдовичем, изящным, а порой будто бы торжественным, мы по-прежнему лишь тихо раскланивались в коридорах.
Сергей Марьин номера газеты с моей статьей и пожеланиями редколлегии “принять меры” отправил в Министерство культуры, пермским, соликамским, чердынским властям, взрослым и молодежным. Мне же он сказал:
– Ты, Василий, произвел полезное деяние. Благородное деяние. А иным нашим мастерам и утер нос. И не ходи хмурым. Месяца через три я опять вытолкну тебя в командировку. Может быть, в Верхотурье…
Я и сам понимал, что работа моя вышла не бесполезной, а для кого-то и важной. Но ни сознание этого, ни одобрение Марьина не доставили мне радости. Наверное, я устал, предположил я. Однако вовсе не усталостью объяснялось тогдашнее мое состояние.
В Пермских землях мне было некомфортно, не по себе, вовсе не из-за мокро-снежного ветра и хмури предзимнего неба. Меня радовали встречи с соликамскими реставраторами и музейщиками, с энтузиастами Усть-Боровских солеварен, с Еленой Григорьевной Гудимовой, Леной Модильяни. Они ворчали, были бедны, кляли власти и обстоятельства эпохи, но у каждого из них было дело жизни, и ради него они готовы были сжечь себя. А кем я оказался вблизи них? Просто прислонился легонько к их делам, и все! И теперь на шестом этаже газетного дома я затосковал. Мне бы ходить и радоваться. Второй своей профессиональной публикацией я доказал, что на что-то способен, что я со многими в редакции на равных. Но я уже сознавал, что газетное дело – не мое. И что в газету меня порой и не тянет. А что же тянуло раньше? Прежде всего, конечно, нестерпимое желание видеть лахудру Юлию Цыганкову. Без нее ничего в жизни для меня, кажется, и не существовало. Сейчас же – что была где-то, даже рядом, Юлия Цыганкова или ее не было вовсе – меня совершенно не занимало. И это не радовало. Ко мне не пришло чувство освобождения от напасти. Меня прижимала к земле справедливость пророчества Анкудиной. Главным было теперь во мне опустошение безразличия. И оттого – тоска… И еще я сознавал, что помимо желания видеть Цыганкову существенной для моих явлений на Масловку была надежда выстоять в очереди квартиру. “Не для меня она нужна, – убеждал я себя, – для стариков. Должен же я сделать для них нечто хорошее…” Попав в предполагаемые зятья академика Корабельникова, я посчитал себя виноватым перед стариками – заявление мое в жилищной комиссии обязательно и с облегчением было бы похерено. Но в высокородные зятья я не угодил (“Пронесло, Господи!”) и остался вполне равнопризнаваемым очередником. Но думать о том, что из-за квартиры я обязан и далее размещаться не в своем служебном пространстве, было для меня теперь унизительно.
Однако что же я раньше-то не рыпался? Отчего же мне (вынесем за скобки Цыганкову) было не только уютно на шестом этаже, а порой даже приятно? Отчасти жил грезой: а вот чему-нибудь этакому научусь, напишу статейки не хуже Бодолина или Капустина, и меня по плечу похлопают, признав истинно своим. И написал. И похлопали. И признали. А дальше-то что? Это ведь Марьин подсказывает мне темы и выталкивает в командировки. Ну еще через три месяца вытолкнет в Верхотурье. А так-то мне сидеть и сидеть в Бюро Проверки, ковырять тексты в типографских полосах, превращаясь потихоньку в мечтательно-болезненную Нинулю. Может, все же податься в преподаватели истории? Но даже если что и получаться станет, опять же примусь ныть. При этом учителишкой-то квартиры никак не получишь…
"А не лучше было бы, если бы тогда, после приятельского общения с генерал-полковником, – приходило мне в голову, – явились бы ко мне люди с наручниками? Вот все бы моментально и разрешилось…”
Так я тосковал, тосковал. А потом и запил.
***
В те дни и прибыла в Москву – по делам или время приятно провести – Виктория Ивановна Пантелеева, в девичестве Корабельникова.
Но я об этом узнал не сразу…
Я написал “запил”. Тут я не прав.
Запой все же предполагает безудержное употребление напитков, полные забвения, а то и скотские состояния.
Про меня тогдашнего вернее будет сказать: начал пить.
Прежде я, случалось, выпивал, но, как правило, за компанию и по вразумительным поводам. А тут хотелось выпить одному, без всяких с кем-либо разговоров, в бессмысленном молчании. Коли приходили в голову соображения о “деле жизни”, можно было бы встретиться с Костей Алферовым и Валей Городничим (телефонные одобрения приятелями своих писанин я выслушивал и с некоей небрежностью их прерывал – мол, сами знаем, что не лыком шиты), но серьезную беседу заводить с ними не пожелал. Что нагружать ребят своим нытьем, своими мытарствами и раздрызгами? Марьина мои сомнения теперь бы обидели. Можно было бы восстанавливать душевное равновесие в доме у Сретенских ворот, в утешениях Тамары (Тамара, чуткая женщина, искательно взглядывала на меня в коридорах, но слов не произносила), однако тогда я увяз бы в чем-то необязательном для меня, но постоянном и никакого житейского равновесия не обрел. Снова меня стали посещать мысли об Обтекушине – вот бы найти его и распить с ним бутылку, молча, хотя бы за доминошным столом в его дворе. Но до Обтекушина я, видимо, еще не созрел.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу