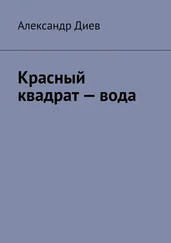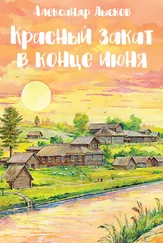Бульшая же половина была утрачена менее банальным путем. На премьере «Очереди в ад» к Бенциону Шамиру по-хозяйски протолкалась пышная мадам с довоенными польско-еврейскими манерами и представилась его тетей, точнее, женой его варшавского дяди – состоятельного отпрыска того самого семейства, в котором покойный папа Бенци считался шлемазлом и белой вороной. Кошмары холокоста, однако, смыли былые неудовольствия, и дядя-бизнесмен был искренне рад чудом уцелевшему племяннику. Некоторое время Бенци у них изредка обедал, однако общая сказка об идиллическом прошлом постепенно истаяла, встречи становились все реже, но симпатия держалась. Поэтому Бенци не колебался, когда дядя предложил ему вложить предельно допустимую сумму в строительство большого отеля в маленьком курортном городке.
Старый деляга не ошибся – и город, и отель росли и процветали. «Твоя доля еще подросла!» – радостно приветствовал дядя племянника на эпизодических семейных торжествах, но именно в тот момент, когда Бенци наконец решил коснуться этой доли, дядя ускользнул в болезнь Альцгеймера и наотрез никого не узнавал. Если не считать жены, при виде которой он каждый раз отчетливо произносил единственное сохранившееся в его памяти слово: «Сука!» Дети же его, «братаны» Бенци, все как один состоятельные бизнесмены, так же наотрез знать ничего не знали и слыхом ничего не слышали.
Когда за измерением кровяного давления в возрасте девяноста четырех лет отошла в лучший мир его мать (японский дигитальный монитор зафиксировал blood pressure двадцатилетней девушки), Бенцион Шамир наконец-то осознал ту очевидность, которую он даже в свои более чем зрелые годы не до конца различал за все еще, оказывается, не развеявшейся сказкой детства: в этом мире ему совершенно не на кого рассчитывать. Сын, как все по-настоящему несчастливые люди, в глубине души считал несправедливым чем-то жертвовать людям, более счастливым, чем он сам, а отец и мать сквозь сказку детства все еще представлялись ему могущественными и несокрушимыми. К слову сказать, однажды Бенци вежливости ради спросил сына, давно ли он видел мать, и тот, напомнив Бенци его перекушавшего травы забвения дядю, вдруг выпалил: «Хоть бы она скорее сдохла».
Бенцион Шамир хотел было попенять ему, но остановился: зачем?.. Что значит слово, если есть мнение? Он давно не пытался вести с сыном душеспасительные разговоры: если человек утратил собственную сказку, помочь ему невозможно. У сына, правда, были чудесные дети, мальчик и девочка… Ну так и что? У него и у самого когда-то был чудесный сын. А потому он старался поменьше видеться с внуками, чтобы снова не потерять голову. Ведь все, что любишь, рано или поздно уплывает из рук. Даже если остается рядом.
Бенцион Шамир давно привык чувствовать себя одиноким: вокруг него не было людей, которые могли бы разделить с ним его сказку. Да и сама эта сказка непонятно в чем теперь и заключалась. Когда ему доводилось знакомить с Тель-Авивом иностранных писателей, он всегда проводил их мимо сверкающих «бутиков» и дорогих кафе с величайшим презрением: зачем плодить столько сортов обуви и пива, зачем столько платить за мрамор, когда в бетонной забегаловке через два квартала кофе намного вкуснее? А вот желающих служить в армии все меньше и меньше!..
Он спохватывался, что превращается в старого брюзгу, и начинал следить за собой, но это было нелегко: брюзжание – еще самое невинное из того, на что способны люди, утрачивающие любимую сказку. Поэтому он старался поменьше бывать на людях. Наполнив дом неземной музыкой кого-нибудь из великих немцев, отделяясь от земли и сам и чувствуя себя предателем, оттого что позволяет страданиям перерастать в красоту, он, ссутулившись, бродил по большой комнате, заставленной и заложенной книгами на четырех языках, включая немецкий, освоенный им из принципа, – чтобы никто не мог подумать, что он сводит счеты с немецкой культурой. Свои жилищные потребности он свел к минимуму: в процветающем Израиле он оказался некоммерческим писателем, хотя его сочинения изучались в университетах. Одному ему на жизнь вполне хватило бы, но статус требовал большего. А кроме того, он не мог брать деньги у женщин, с которыми ему доводилось жить под одной крышей или путешествовать по Европе (Германию и Польшу он все-таки объезжал стороной – к чему изводить себя сверх необходимого?)
Женщинам он нравился – известный писатель, интересный мужчина… Он был бы даже не просто интересным, но очень интересным мужчиной, если бы не держался так упорно за старомодные и, прямо скажем, дурацкие усики, придававшие ему сходство с Чарли Чаплиным. И все же немало женщин нежно гладили его по шее, сочувственно дивясь, откуда у него такая лесенка шрамов. Он тоже не раз влюблялся, но любовь не открывала ему наидрагоценнейшего из своих даров – забвения. В самые страстные или поэтические минуты в его воображении начинали копошиться настырные картинки – а как бы его избранница смотрелась на соломе в манеже? В закопченной пещере церкви? В духовке мечети? В воше-бойке? В товарном вагоне? Со струйками грязного пота, бегущими по этой трогательной коже… Под куском мешковины с самодельной надписью «карамель»… На палубе, залитой кровавым гороховым супом… А что, если бы они вот так и закоченели, – как бы стали разгибать их сплетенные руки и ноги?..
Читать дальше