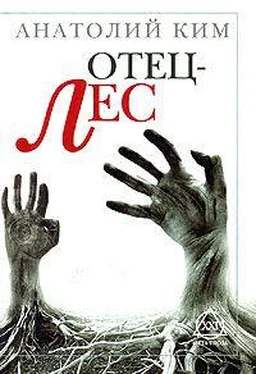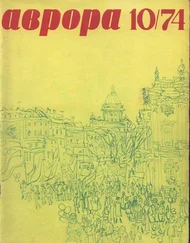Тот, кто издали следил за нею ледяными глазами, летел в мировом пространстве, неукротимо удаляясь от меня, и я воскликнул ему вслед с горечью и упрёком:
— Вот как! Ты ничего не хочешь сказать?
Ни слова в ответ, лишь растерянное мигание миллиардов звёздных огней. Гость из Пустоты отлетел со скоростью, превосходящею скорость света, поэтому словам моим было не догнать его.
— Как! — вскричал я. — Ты знаешь, что я свою волю и возможности могу проявить через звёзды, через деревья или поступки мелких людей, ты знаешь, к чему я устремлён — и ты молчишь? В неистовстве самоотречения Деметры можно предугадать всю серьёзность её трагических намерений — и ты молчишь? Если в одном малом существе, так сильно привязанном к жизни, — в человеке — жестоко и неодолимо бушует огонь самоуничтожения, то это начало присуще и всему моему Лесу… И ты молчишь? Всё моё вещество жизни трепещет от жажды зелено сиять во времени — и тут же, в самом расцвете существования, вздрагивает от вожделения вернуться к изначалу пустоты, отвергнув самое себя… и ты молчишь?! Весь мир моих дивных, таинственных деревьев готовится к последнему порыву самосожжения в большом огне — и ты молчишь, отлетаешь, скрываешься за гранью мне доступных пространств?
Отче, помоги мне, может быть, это Ты? Если хоть одна звезда в космосе окажется способной взорвать самое себя, то и вся Вселенная сумеет это сделать. Спаси, удержи меня от воли моей страшной. Отец мой неизвестный! Ведь Ты должен быть у меня, иначе откуда я? Я существую, значит, существуешь и Ты. На земле люди знают своих кровных отцов, но это скоротечные отцы, которые странным образом любят нас — почти ненавидя, а затем однажды падают и умирают с чувством глубокой вины в душе.
Степан Николаевич Тураев скончался днём в лесу от внезапной остановки сердца, которое не переставало биться по протяжении более чем шестидесяти лет и не пожелало останавливаться даже в аду плена и концлагеря. В последний же день сердце начало примолкать на какие-то краткие мгновенья, совершенно непонятные для их осознания или сравнения с другими мгновениями жизни. Чтобы как-то преодолеть тот неимоверный по скорби и гнёту порог истины, что вот и на самом деле пришла смерть и всей жизни как будто и не было, Степан Николаевич отправился на ночную охоту, хотя грудь с левой стороны сдавливало и жгло нещадной болью. Вот и, сходив в ночь, Степан Тураев упал под раздвоенной сосной-лирой на Колиной поляне — считать ли такую смерть шагом сознательного самоистребления?
Николай Николаевич, отец Степана и дед Глеба Степановича, свой уход на житьё в лесной пустыне совершил всё же подчиняясь этому смутному скрытому порыву. Мне в этой ветви человеческой близко именно данное трагическое свойство крови, которая течёт в её извилистых сосудах, неся в себе столь сильный заряд бунта человеческой мошки противу великой воли царственной Вселенной. Близка потому для меня данная тураевская постоянная готовность к покушению на самое главное в себе, что во мне самом то и дело прорастает такое же демоническое зерно, и путь бунта представляется мне самым привлекательным. Облить себя бензином и сжечь на площади перед беломраморным дворцом, выражая подобным способом своё окончательное несогласие с насильственными действиями правительства, — такое решение могло прийти только к человеку, к нему одному во всём Мире Вещества, — и поэтому предполагаю, что в каждом человеке проявляюсь я и я проявляюсь в каждом человеке. Ибо мне, их одинокому Отцу, которого они не знают (так же как и я не знаю своего), — мне тоже хочется поджечь себя, чтобы привлечь к себе внимание тех, кто выше меня и кому совершенно нет дела до таких, как я.
Выражая своё сокровенное, космическое, родовое через то, что говорят люди, я уже не пойму, что же они говорят. Значит, я перестал сам понимать, что я говорю и чего хочу. Для тех, кому непонятна эта моя растерянность творца, которому его творение непослушно, и живёт оно своей таинственной жизнью, а порой строптиво перечит ему, — неизвестным мне гостям из вселенской пустоты я предоставляю право судить, почему я с деревьями Леса человеческого обхожусь гораздо суровее, чем с зелёными существами древесного Леса. Майя этого леса послушна мне и в зыбучих, нежных туманах предутренних снов ластится к моему сердцу, приникает к самому нежному его средоточию, и я люблю ласки своих зеленокудрых детей. Я счастлив их тысячелетним благополучием, моя мысль полнится горделивым сознанием того, что здесь-то я, кажется, достиг совершенства. Совсем иные ощущения идут ко мне от майи леса человеческого, и связано с человечеством моё самое больное, неразрешимое и, стало быть, самое главное начало.
Читать дальше