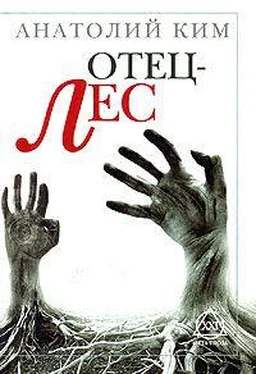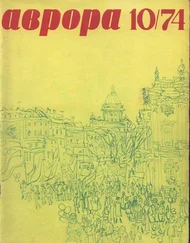С тех пор как человек узнал о смерти, он всё время стремится к ней, и это вовсе не значит, что ему самому хочется умереть, — бывает, для него и достаточно того, чтобы умертвили другого. Лес, мой затейливый зелёный Лес, выращенный по деревцу, по кустику, затаил это желание зла себе подобному в неподвижности своего существования — я заключил всю энергию самоистребления деревьев в эту неподвижность, как в ядро атома его энергию. Но вот, вырвавшись из статичной формы, энергия саморазрушения начала бушевать в Лесах человечества — вся его история наполнена страстью самоистребления. Нападение одних людей на других, родов на роды, племён на племена, убийство путника, соседей, малые и великие войны, рассмотренные с позиций Единого Человечества, есть не что иное, как его многочисленные, растянутые в тысячелетиях попытки суицида. И тот из людей, кто первым объявил священною заповедь «не убий», сделал, в сущности, и самую первую попытку шагнуть в сторону от предопределившегося пути, который выявился, прост и ясен: самоубийство Человечества.
Подобно тому, как дерево шумит, когда его ещё и на свете нет, многие слова, произнесённые внуками, были когда-то повторены предками — мне всегда не по себе от повторения, всё в новых и новых вариантах, человеческих судеб, одних и тех же несбыточных надежд и желаний. Деревьям моего Леса свойственно шуметь одинаковым образом — на лёгком ли ветру, трепеща одними листьями и мягко покачивая концами самых тонких ветвей, или на сильном ветру, торопливо, испуганно пригибая вершину и уже не журча, как ручей, а издавая гул водопада. А под ударами внезапной бури деревья Леса, даже самые могучие, как бы теряют голову от страха и шумят, словно стадо буйволов, ревут, словно волны морские, осатаневшие под бичующими ударами ветра. Но все эти живые звуки, бесчисленно повторяясь и чередуясь, уже давно обрели стройный порядок в прозрачной полифонии веков, и музыка сфер, одухотворяющая струны и звучные скважины флейт в моём Лесу, давно заучена мною наизусть. В любое мгновенье, прислушавшись к тишине или звучанию Леса, я могу продолжить, напевая про себя, текущую в богоданное время мелодию тонкого безмолвия или тревожного упования.
Таковы и людские страсти — все они уже давно закомпонованы в одном общем опусе на тему человеческой тщеты, и я прослушиваю его фрагменты весьма редко, ибо действует на меня эта музыка чрезмерно волнующе. Но вот одна его часть привлекает меня чаще других, она до глубоких недр будоражит душу мою и остаётся для меня всё такой же мрачной тайной, как и при первом соприкосновении. Вот плачет младенец — смолк; но вот плач продолжился — и резко усилившись в своей горестно-требовательной интонации; и снова краткая пауза: словно прислушивается, не близится ли избавление; и вот накатывает вопль отчаяния такой высоты и силы, что выдержать это уже нет возможности — надо немедленно что-то делать, хотя бы подойти и взять ребёнка на руки. И он вскоре начинает постепенно возвращаться из какого-то не доступного никому, кроме него, клокочущего огненными недрами, неистового мира, быстро остывая, сразу снижая крик, затем долго плача на одной ноте и, подобно молодой планете, постепенно покрываясь каменистой коркой сплошных всхлипываний; но вот всхлипывания совсем стихли — и очень быстро окуталась молодая планета воздушной средой, которая засветилась под лучами солнца голубым нимбом; а вот и пали на землю первые потоки ливня, родилась зелень — и сверкнула на лике планеты первая улыбка жизни. Слава богу, из предмета космической катастрофы ребёнок снова стал обычным ребёнком…
Но, повторив весь путь эволюции от огненной стихии до лучезарной человеческой улыбки — что же он запомнил из этого пути, что стало для него особенно дорого? Неужели затаилась в процессе этого развития какая-то роковая, никем не замеченная ошибка? Желание уничтожить другого человека, то есть, в конечном итоге, себя, желание Деметры _не жить_ — неужели где-то на дистанции долгого развития род людской всё-таки ждёт последняя быстрая катастрофа? Мой Лес человеческий, выбежавший из Леса древесного на широкие равнины, пока ещё шумит на планете, он жив и процветает, но что будет с ним лет через двести?.. Отцу-лесу, видимо, нечем поделиться с детьми, кроме своего великого одиночества.
Идущая навстречу девушка одета в светло-серый плащ; узкое бледное лицо, под косо надвинутым беретом светятся глаза — издали внимательно глядят на меня; это произошло среди привольных лугов в окрестностях бывшего посёлка Гуд; она дочь председателя колхоза «Новый путь», того самого, который перестал существовать после того, как его присоединили к огромному нищему хозяйству по соседству; она долго где-то училась, жила в городах и вновь появилась в деревне уже к тому времени, когда от неё, собственно, осталось всего две избы и множество ям, заросших свирепо крапивой — на месте стоявших здесь дворов.
Читать дальше