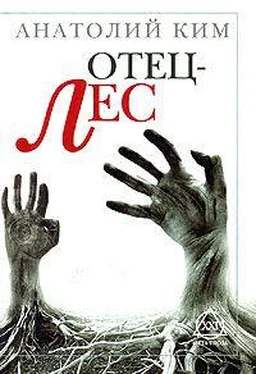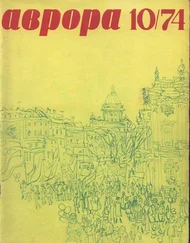— В каждом человеке проявлен Бог, — нехотя молвил Николай Николаевич Тураев в холодной полутьме подвала, расположенного под заброшенным домом какого-то ведомства на Второй Мещанской улице в Москве.
Сентенция Николая Тураева вышла диковатою в той обстановке, в которой прозвучала: человек десять самых серьёзных бродяг и люмпенов собралось в подвале, убежав от слякоти тающего на грязных улицах городского снега. И хотя подвал не спасал во время оттепельной сырости, там над жидким хлюпающим полом проходили тёплые трубы, и возле них расположились, сидя или лёжа, случайные и постоянные обитатели подвала бездомных. Среде последних и принадлежал Николай Николаевич с напуганной спутницей своей Верой Кузьминичной, с которой он вовсе и не разговаривал, на которую даже и не смотрел — словно бы и не любил её всю жизнь любовью великого отчаяния, безнадёжности и постоянства. Они кормились совместным трудом — мыли стеклянную посуду для аптек, входя в артель специализированных в таком деле московских бродяг. Помои аптечные собирались, делились и употреблялись данной публикою как сильнодействующее наркотическое средство — но Козулина и Никто всегда отказывались от своей доли, довольствуясь только теми копейками, что платили им за их труд.
Слова, которые произнёс Николай Тураев, были обращены своим смыслом к человеку с плоской лысиной на лобастой голове — при мелькающем свете, падающем из дырки в каменном цоколе, эта голова то вспыхивала своим верхним макушечным бликом, то выставлялась из тьмы жёлтым кругляком скулы, освещённой керосиновой лампой. Эту лампу лысый человек, уголовник Гриня, поставил на пол хлюпающего и капающего подвала, а сам сел над нею с широко разведёнными коленками, стараясь своим туловищем защитить стекло лампы от опасных для него капель со всех сторон падающей воды. Он только что, не отходя от лампы, выбрал из носа в глотку комок слизи и с силою харкнул в лицо какому-то бродяжке в каракулевой шапке, на которой почти не было меха: этот морщинистый человечек сунулся было, урча мирными звуками, посидеть вблизи керосинового огня. В ответ на плевок ему в лицо и прозвучали в подвале негромкие слова бывшего Николая Николаевича, который теперь был Никто.
— Чего проявлен? — сомневаясь, слышал ли он что-нибудь вообще, спросил Гриня, завсегдатай подвала, которому после выхода из тюрьмы пока негде было жить, — он спросил не у того, кто произнёс возвышенную фразу, а у того же шаромыжника, которому подарил свой плевок в рожу.
Старая женщина, в девичестве Ходарева, которая время одной жизни назад впервые предстала глазами Николая Тураева в доме на Разгуляе, теперь красной морщинистой рукою тронула плечо рядом сидящего бородатого старика и боязливо прошептала:
— Не надо, Николя…
Но, не внимая ни словам, ни предостерегающему прикосновению верной руки, Николай Тураев, считающий, что он теперь Никто, ровным голосом продолжал:
— В человеке явлен Бог, и всё, что происходит с человеком, то происходит в Боге, а значит вся…
Осторожно наклонившись и при этом с наслаждением вдохнув тёплого керосинового чаду, Гриня подвернул коптящий фитиль, убавляя зубчатое пламя на нём: по сторонам длинного подвала вдруг засопело, заколыхалось и враз закашляло несколько засоренных простудными плёнками дыхалок; Николая Никто самовластно коснулось совершенно никчемное воспоминание, и он умолк на полуслове.
— Тя-ак, тяк-тяк! — растягивая свои известные всем в подвале «тяки», со значением произнёс Гриня. — То всё молчал, бильдюга, а то заговорил? Боженька, говоришь? Тя-ак! Посмотрим.
Николай Никто с закрытыми глазами присутствовал в благоухающей чем-то хорошим и свежим большой комнате помещичьего дома, сухо овеянной печным теплом, в оранжевых обоях; открылась дверь, и вошла нестарая женщина с бледным красивым лицом, с грустными глазами; Никто увидел, как она подошла к высокому буфету, и открыла его, привстав на цыпочки, и достала с верхней полки перламутровую раковину с блюдо шириною; поднеся тяжёлую раковину к уху женщина с грустными глазами принялась слушать морской шум. Кто была она? Покойная матушка? Или помещица Лариса Зайончковская?
— И давно так думаешь, старенькая вошь?
В доме Ларисы Петровны собирались интересные молодые люди из Касимова, Владимира, иногда даже из Москвы. Однажды была там и Вера Ходарева, тогда ещё близкая подруга Лиды Тураевой — вместе заехали к Ларисе Петровне на легковых санках Андрея Николаевича. На вечернем розовом свету снег сугробов вокруг дома и в саду был столь живым и трепетным, что девица Ходарева, не объясняя никому, зачем это делает, выбежала из дома на мороз без шубы и платка, кудряво-простоволосая, светящаяся молодой красотой. Проваливаясь башмачками в снегу, заметая длинным подолом рыхлый снег, побежала она по двору далеко-далеко, к замёрзшему фонтану, где темнела укутанная в рогожи одинокая пальма, — и никто не остановил её, все весело смеялись, глядя на Верочку из окон.
Читать дальше