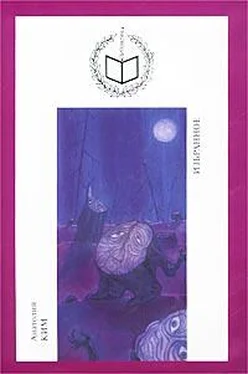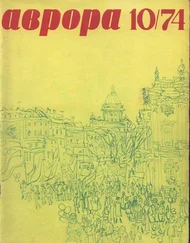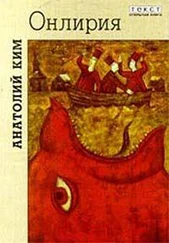— Какой породы собачка?
И ответ получаю как будто тоже на русском, звучит что-то вроде:
— Самоедина лайка.
— Самоедская лайка? — уточняю на всякий случай, хотя уже все ясно мне. — Очень хороший песик.
Очень хороший песик понял, очевидно, что речь идет о нем, вытянул голову из ямки, куда уже зарылся по самые уши, оглянулся и посмотрел — не на меня, а на своего хозяина — тем же внимательным вопрошающим взглядом: ну что, ты по-прежнему думаешь?.. И в его черных, блестящих, как мокрые маслины, глазах было столько света, который и называется жизнью, что я был зачарован и окончательно прельщен им, хотя он вовсе и не предназначался мне. Ответ на вечный вопрос, который мучил заурядного Василия да и не только его одного на свете: зачем сегодня жить, если завтра все равно умирать? — был дан здесь самый исчерпывающий. Ответ содержался в глазах собаки и выражался во встречном вопросе: а если никогда не умирать, стоит жить? На что хозяин самоедской лайки, немного подумав, отвечал своим просветленным взором: тогда, наверное, стоит… И, получив такой ответ, вполне устраивающий на данный момент самоедскую лаечку, она живо повернулась к оставленной ямке, засунула туда голову по самые уши, невежливо выставила к небу бубликом загнутый хвост и розовый кружочек под самым его основанием, чтобы вновь передними лапами выгребать влажный песок из норы, а задними, резко отлягиваясь, эвакуировать его дальше назад.
Что ж, для Василия при его жизни ответ скромного испанца своей выдающейся собаке мало бы что значил. Василий воспринял бы все это как благостную риторику, конформистскую идеологию старых гуманитарных реликтов. Но после своей смерти наш яростный нонконформист многое отдал бы, я думаю, за одно только то, чтобы хоть на минуту вернуть себе простую возможность: сесть на уличную скамью, неспешно посмотреть вправо, влево — и вдруг непроизвольно широко разинуть рот и сладко, сладко зевнуть. Ах, зря Василий насмехался в своих многочисленных пародиях над старыми гуманитариями, положительно расценивавшими жизнь и прославлявшими любовь и благородство человеков. Несмотря на все проклятия тех, что ссорились с жизнью, после их смерти эта же самая жизнь обретала для них цену неимоверную. И благородный сеньор с белоснежной седой головой, с черными густыми бровями любил ее в каждом мгновении, на самом малом пространстве, в непритязательности каждого движения, в простейших явлениях, таких, как легкий ветер-бриз, полуденный сон, поворот головы и взгляд в ту сторону, откуда донесся густой нежный звук глиняной окарины… И любимая квадратная башня, которую построил он из красноватого песчаника, через века превратилась в лохматую собачку кремового цвета, села у ног хозяина и преданно посмотрела на него.
После того как я увидел на вершине горы эту плоскую квадратную башню и ярославский художник несколько раз зарисовал ее, а рядом на соседней странице альбома нарисовал лохматую самоедскую лайку, мне стало ясно, что они суть одно произведение Бога, Испании, Ярославля, Лапландии и в этом смысле все мы одно, и живем друг в друге, и переходим один в другого, и этому беспрерывному хождению в гости нет конца. И мне захотелось самому превратиться в эту башню и постоять век-другой на каменистой вершине, глядя в ошеломительную бирюзовую даль, открывающуюся отсюда, с высоты. И я перевоплотился в каменную башню, которую когда-то построил один знатный, богатый сеньор.
Он предстал впервые перед башней в тот день, когда ее освящали, и я запомнил, в каком великолепном камзоле, выложенном золотым позументом, с высокими обшлагами, шитыми гранатовым бисером, появился он передо мной. Торжественно и горделиво подняв голову мне навстречу, он так смотрел снизу вверх на мои зубцы и бойницы, словно происходило все наоборот и это он разглядывал меня сверху вниз.
Но мои многовековые руины запомнили его не только таким славным и горделивым — они помнят его уже совсем старым, больным и беспомощным, принимающим пищу из чужих рук и не владеющим речью — в результате ли перенесенного инсульта или вследствие болезни Альцгеймера. Целыми днями летом просиживал он на свежем воздухе в кресле, поднятый слугами на квадратную площадку башни, и с увлеченностью азартного игрока следил за возней и драками воробьев, прилетавших на вершину башни поклевать крошек, которые подбрасывал им длинноволосый, сутулый, почти горбатый слуга Хулио каждый раз по совершении трапезы хозяином.
Читать дальше