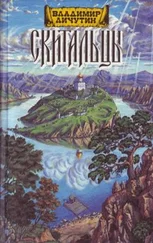Вот по мосткам прошла длинная старуха в фуфайке и черном платке, сбитом на глаза. Ноги в блестящих калошах скользили по матовым мосткам и плохо держали женщину.
– Девушка Морошина опять куда-то сбродила, – сказал громко и радостно Степушка. Он сразу узнал старуху и готов был над ней смеяться.
– Вот уж воистину была Морошина. Большая, краснющая. Однажды на посиделки пришла, а Манька Афониха так и вскричит: «Девки, Морошина пришла». – Параскева Осиповна так и выпялилась в окошке, долго рассматривая Феколку, будто век не видала. – Сама-то на каменьях голых на печи лежит да в ремках-рванье ходит, а собаку на кровати держит. О дура баба, с печи-то кричит: «Альма, положи голову на подушку да растяни ноги». Господи, чего только время не делает с человеком: оно его родит, оно и уродит.
Параскева опустилась на скамейку, пришлепистый нос подрагивал, значит, мать думала и нервничала. Кудель вилась в ее скорых, не загрубевших пальцах, нитка шла ровно, без узелков, не макаронина, а соломинка ровнехонькая. Параскева поплевала на пальцы, тоненько запела, высоко повела голосом:
– Во лузях да во лузях, во зеленых во лузях выросла да выросла, вырастала трава шелковая...
И неожиданно песню оборвала, скомкала, на диван деревянный коленями вскочила, запрыгала, руками замахала. Мать и в старости не менялась.
– У бабы ведь так: у одной искра, у другой огонь, а у этой адское пламя. Королевой идет. В шестьдесят лет надо саван шить, а она сорокалетнего мужика от семьи да четверых детей отбила и к себе приворожила. Я от нее отреклась, я от нашего роду ее выкинула, Феколку девушку.
Тут из боковушки вышел дядя Михаил. С племянником еще не видался, а потому поздоровались за руку. Была ладонь у дяди Михаила тверда, как еловая доска, и пальцы с толстыми костяшками почти не гнулись, так что Степушке самому пришлось жать дядину руку. У дяди было худое желтое лицо с глубокими дольными морщинами, и оттого казалось, что разделено оно на четыре ровные части, глаза были небольшие и ореховые, как у матери, но тусклые и печальные.
Дядя поворошил Степушкины жесткие волосы и спросил:
– Каково в городе живут? – а не дождавшись ответа, ускочил к порогу, сел на табурет. Новые шерстяные головки, наверное, кусали, потому дядя Михаил гладил носки, поочередно задирая ноги на колена. А когда Параскева ушла в горницу, подмигнул Степушке толстой седой бровью и показал из кармана пиджака зеленое горлышко. – Пойду успенье направлю. Им, бабам, добро сделаю, молодое бабье лето на жару наведу. А то наскрозь промокли. Может, ты того, за компанию, а?
Но Степушке уж больно хорошо было сейчас и без выпивки, и он без сожаления отказался.
– Вам тут и самим нечего делать, пачкаться только.
– Ну как знаешь. Вольному воля, было бы предложено.
... А пока Степушка раздумывал, чем бы заняться в этот длинный день, как на взвозе сгрохотало, заревело, покатилось, сгремели ведра, заблеяли овцы на заулке. Но Параскева не шевельнулась, не поспешила сразу на взвоз, только волосы будто ветром обдуло, так торчком поднялись они.
– Значит, Мишка заявился, уже на бровях ползет, кат заморский.
А Степушка вдруг с тоской подумал: «Еще две недели отпуска впереди».
Параскева натянула на голову шапку с кожаным верхом, берегла она голову, давление высокое, и пошла на спасение брата. Степушка выскочил следом, чтобы поглазеть и при случае подсобить матери. Дядя Михаил не мог покорить взвоз, он был пьянехонек и кричал:
– Вот за-жгли-ся лю-стры и на-чал-ся бал...
– Будет тебе бал, кат заморский, – грозно воскликнула Параскева и, приподняв сухонького брата, хорошенько шлепнула его по заднице, словно напроказившего ребенка. – И долго ты будешь мои нервы мотать, сколько тебе говорено было, чтобы за рюмку не брался, раз пить не можешь, – орала Параскева Осиповна на всю улицу безо всякого стеснения. А дождь, заново набрав силу, хвостал по лицу, мешаясь со слезами. Потом вместе со Степушкой занесла брата на кухню, поставила средь пола, чтобы не за что было ухватиться, а пока того мотало, как осиновый куст, Параскева взяла в углу большую жестяную банку из-под монпансье, надела брату на голову и громко забрякала по днищу. – Сейчас тебе смирно будет, сейчас тебе полюбовно будет.
Михаил Осипович махал руками, что-то кричал еще, но гулкий бряк затуманил контуженую голову. С помощью сына Параскева подняла брата на печь, потом сбросила на пол валенки, и фуфайку, и поленья, что сушились для растопки, и паровой утюг сняла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу