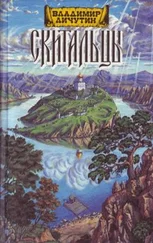– Может, рекрутские песни вспомните? – настаивал Баринов, отчего-то жалея старика и проникаясь к нему состраданием, но душно было, затхло и хотелось на волю.
– Я лекрутские песни все знаю. Я их один, пожалуй, и знаю. Еще до германской лекрутился. Я ведь храбрый, черт такой, был, во мне храбрость лешева была. Через нее я два «Георгия» да медаль навесил, через беспуту храбрость... «Как выезжал-то майор да полковничок, ой-да-ой-да привози-и-ил указ-то немилостив», – запел без подготовки, хрипловатым, но неожиданно сильным грудным голосом, коленце к коленцу приколачивал легко и сам с собою управлял ладно, желанно возносясь в небо, а после покорливо и согласно уводил голос обратно в нагретое жилье, а там оживлял его и заново наполнял силой. Так и пел Геласий еще с час, наверное, пока не устал, не обращая внимания на машину и микрофон, сунутый к самой бороде, призавесив бровями ожившие глаза и самому себе подыгрывая:
...Как меньшой-то сын да он расплакался,
Отцу-матери да сын разжалился:
«Да я не сын, верно, вам, верно, пасынок,
Я не пасынок вам, верно, чужой сосед,
Верно, чужой сосед, да злой-лихой злодей».
Каждую песню давали старику прослушать. Раковиной тугого уха Геласий вдавливался в микрофон и, внимая себе, совсем уйдя от народа, расплывался в детской откровенной улыбке... Знать, жива душа в человеке от рожденья и до погоста, жива и радостна в самой себе, не сокрушенная тягостным бываньем на земле. Только плоть бренная ссыхается, деревенеет, отставая от кости и превращаясь в палый лист, коему скоро выгореть и иссякнуть прахом, растворившись в порах земли. А душа не-е: она полнится от долгого быванья, все прочувствованное копится в ней в самой укромности, стережась чужого догляда, и вот пришла минута, когда она, выпроставшись доверчиво из засохлых кожурин, откровенно обнажилась и саму себя впервые выслушала, ибо не песня же сейчас открылась в воздухе, а сама исповедь.
Жмурился Геласий, кивал куропачьи белой головою, а после, как кончалась песня, распахивал застекленевшие от влаги глаза и говорил расслабленно:
– Все правда... Как спел – все в точности, – одобрял старик машину, холодно мерцающую кошачьим зеленым зрачком. – Ничего не соврала, прокуда... Ай да и я, ну и крест ходячий, чего натворил. Знать, не зря меня мати-земля на себе носила столько годков, своим вниманьем отметила...
Сноха Кира все так же застыло сидела у окна, непримиримо каменея спиной.
Желанно спешил Баринов к старику Геласию следующим полднем: заслышав шаги на мостках, на крыльцо спешно выкатил Василист (наверное, стерег у окна), вышел в нейлоновой светлой рубахе, распахнутой на груди, и, скрестив ручищи, обметанные звериной шерстью, загородил собою дверь. «Мужик-то молодой совсем, а брови стариковские, кабаньи брови», – безразлично отметил Баринов, дружелюбно улыбаясь.
– Мы вот припоздали тут, а Геласий Созонтович, наверное, казнит нас? Так прошу извиненья, – еще не утратив утренней веселости, поклонился легонько Баринов, но, однако, на крыльцо отчего-то не решился подняться. Вид молодого хозяина смутил иль плотно, словно бы покойник в доме, завешанные окна.
– Ничего, ничего... Тут такое, знаете ли, что дедо-то вас видеть не хочет.
– С ним случилось что?
– Я не дурак, я вашу работу хорошо понимаю. У вас свое дело, у нас свое. – Василист неожиданно обвалился на косяк, и Баринов понял, что мужик с утра захмелился. – Вы к кому-нибудь другому сходите. У нас в Кучеме врать-то многие могут. А дедку вы оставьте. Он помрет скоро, одна кость да шкура, вы его не насилуйте.
– Он же удивительный, ваш дед. Это талант народный, это как драгоценнейшая жемчужина.
– Бросьте давай. Кому старье нынче нужно. Молодежи? – так и новых-то песен она не поет. Я не фуфло, не-е. У-ух. – Василист вскинул палец, зароговевший, потресканный, с траурной каймой под толстым слоистым ногтем. – Вы небось хорошую деньгу зашибли здесь. У нас за труд нынче плата кругом, а вы платы никакой не ведете.
– Когда вы в застолье поете, вам же не платят. Разве за радость платят? – Баринов сдерживался еще, но уже чувствовал, как потно бледнеет лицом. В окне быстро отдернулась тюлевая штора, в смутной оттайке стекла мелькнула полная обнаженная рука, и там, в неясном отдалении, словно бы втиснутый в черную неровную раму, остался лик Геласия, усталый и равнодушный. Баринов поймал тупой закаменелый взгляд и взмахнул призывно рукой, дескать, эй, дедо, мы пришли к вам, как договорились; но старик навряд ли видел чего, ибо его глаза проникали сквозь. Он навязчиво смотрел на заснеженное низкое небо и шевелил губами, может, звал кого-то, сам прикованный к табурету.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу