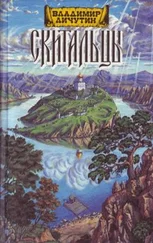Домнушка скрипуче протерла скалку, свела губы в узелок и словно бы прицелилась к Баринову, отыскивая место, куда бы побольнее вонзить ее. А сама меж тем ворковала, смеялась мохнатыми глазками, похожими на две крохотные бусенки:
– У меня с той поры живот и не баливал, только с воспалением легких пять раз лежала. Ну и вот если понос прихватит, значит, пуп вниз уронен, вот и поднимаешь его вверх, собираешь живот в одно место. – Она щекотно гладила Баринова, шершавой ладошкой удивительно легко обегала каждую складку раздобревшего живота и расслабляла его: там, внутри, что-то сразу ожило, забродило, заворчало. – Вот так и вот эдак. Напряженье постоянное внутри, от него и тяжко. Мозоль-то эку срамну наростили, как на сносях. – Домнушка приставила скалку острым концом к пупу и стала подкручивать легонько, ввинчивать ее. – Екает? Не-е? Если живот хороший, должно в пупу екать. Должно быть, болит утроба, коли не екает.
– Ну конечно, болит.
– Ишь ты, миленький. Грыжи нет, пуп не сронен и поносом не ходишь? А болит?.. Гладить надо, в баньке править. Скажи жонке своей, пусть не поленится гладить. Да много жирного не ешь, да не надсажайся. С нерва, поди, тягость-то? Изводитесь все, рветесь на перекладных куда-то, спасу нет, на изгон летите, никого не замечая, нервы в мочало крутите, вот и мучает, вот катает вас, бедных. А куда рветесь, сердешные, к какому такому благу, что себя не щадите? Вот и сын у меня экий же. Вся душа в кулаке, вся на взводе. Чуть что не по ему – в крик...
– Суровый он у вас.
– Власть кою прямит, а кого и в сосульку. Народом ой нелегко совладать: сладкое разлижут, горькое расплюют. Раньше-то в работе вседневной надсажались, в поле иль на море, но, как минута выпадет свободная, тут и запоют, блаженные, так голос подымут, в такое удовольствие войдут, вот душа и ослабнет, надсада-то с нее и спадет. А если раскалить человека, да на таком жару держать, долго ли он выстоит?.. Пели раньше, ой пели. Плохо жилось, а пелось; нынче хорошо живется – да не поется... Я ведь сына сама выходила, от смерти спасла. Пришла в медпункт, а фельдшера говорят, сын ваш уж на холод вынесен, помер, говорят. Я ему грелку молока принесла на груди, чтобы не застыгло. Пала на колени, лью молоко-то, реву, а он тут и ожил, как из мертвых воскрес. И поверишь-нет: гляжу ныне на него – и не признаю порой. Мой ли сын, не чужого ли кого подняла из гроба, из смерти выманила? И порой так раздумаюсь, что страшно, ей-богу. Мое ли молодо в ем, мое ли-и?
Третий день, с дозволения Домны, распевались женщины в светлой горенке, застланной розовыми своеткаными половиками. На заулке под высоко вознесенным небом до рези в глазах искрились голубые снега; взатайках, под застрехами, изба уже слегка потекла, и с краю потоки наметились первые прозрачные иглы. Солнце нахально и радостно ломилось сквозь стекла, мерцающим морошечным столбом половинило избу, стекало на оранжевый пол, на сервант, полный хрусталя, на плечи старух, обтянутые цветастым ситчиком, на платы брусничного шелку, еще чудом сохраненные в глуби сундуков с девичьей поры. Нет, как ни говори, но песню, этот выплеск души человечей, рождают не только голосовая вопленная труба, не только тот таинственный орган, затаенный в глуби груди, но и то особое состояние воздуха, солнца и земли, которое образуется порою в природе и неисповедимым образом переливается в людскую кровь, наполняя ее счастливо рвущейся на волю хмельной силой...
Помнится, как пришли они в первый день, все затрапезного виду, неловкие, виновато склоненные и всполошенные, прячущие изуродованные клешнятые руки под передник. Они казались тогда чужими друг дружке, хмуро косились, куда-то торопились, дескать, от заделья оторвали, скоро сын на обед – а еще и чугуны в печь не ставлены; мол, и поем-то нынь редко, все песни перезабыли, и голос не бежит, гарчит по-вороньи, хрипит – только людей добрых смешить; и жилы в руках-ногах стогнут, которую уж ночь не сплю; и корка-то у пирога нынче ямой получилась, знать, к смерти близкой; и девку вот, малу внучку востроглазу, не с кем оставить, оборони господь, чтобы огня не заронила... Отказывались с каким-то нетерпением, переглядывались нехотя, на готовно поднесенные стулья присаживались косенько, на одну сухонькую половинку, готовые вскочить и бежать. А Домна меж их мохнатым шмелем вилась, гудела, умасливая и растапливая недоверье:
– Вы что, бабоньки, уж никотора и петь не умеет? А петь-то, христовенькие, велико ли дело, я вас мигом научу. Рот коси да головой тряси – вот и песня. Будут думать, что поешь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу