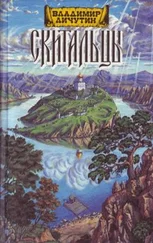Мне отец рассказывал, с ним было. Поп едет на судне, в рубке стоит и штурвальному, отцу-то моему, значит, и говорит с ехидцей: не так, дескать, правишь. Скажи по картушке стороны света, как отче наш. Ну, отец и отбарабанил. А теперь, дескать, в обратную сторону повтори, тогда поверю, поп-то пристает: скажи наоборот, иначе ехать с тобой боюсь, утопишь в море. Отец и в обратную сторону отчеканил, а после не будь глуп, да и попроси батюшку: «Батюшка, а скажи-ка „Отче наш“. Тот прочитал. „А теперь сзаду наперед“. Поп тык-мык и глазами захлопал... Вот часто и мы на положении того батюшки: нравоученье читаешь, дескать, так не поступай, да этак, а тебя и подкузьмят, да так ловко, что невольно запоешь: „Как растет лесок суковатый, как живет там народ зубоватый“. Правильно говорю?
Я, Любовь Владимировна, если по совести, дурачливый был, ирония меня навещала иной раз, и нездорового свойства. И горел из-за нее синим пламенем.
Помню... Экзамены принимал и нарисовал дружеский шарж на директора. Ребята его ослом звали. Ну и подпись вроде того сочинил, мол, осел, козел и косолапый мишка задумали сыграть в футбол. А после забылся и сунул ту бумагу в школьный журнал. Ну, шарж и попал к директору, шумиха тут поднялась по причине моей иронии. Приказ после пришел: завуча, то есть меня, с работы снять, как не имеющего высшего образования, и переставить в рядовые учителя.
У меня, видно, особое направленье ума было.
Про Степушку я тебе не рассказывал? Он ведь малой-то любил под столом сидеть. Приду на урок, а он под партой сопит. Он какой-то особый, мне думается, был. Все ожидал я, что вдруг проснется, и такая личность из него воспрянет. А он на учебу вовсе охладел, обленился, вроде что-то застыло в нем от раннего заморозка. Сам-то, говорят, с колокольню Ивана Великого вымахал, а по разговору евонному все чудится, будто из-под парты так и не вылез, скукожился и кряхтит там. Удивленный он, если выразиться точнее. А ведь ты любишь Степку-то, по голосу чую, что любишь. Бархатный голосишко-то стал, без скрипа. Ах ты, прости. Значит, разглядела в нем уголек: светит, зовет, а? И дуй пуще, не дай замохнатеть. Правильно говорю?.. Нынче вот по радио слышал сочинение и на лету схватил. Так всего и встряхнуло, словно в себе себя разглядел... «Что это – счастье или горе-то – раздвоение любви? Ведь на земле так тянет в море, а в море страстно ждешь земли. И потому дома поморов напоминают корабли». Услыхал – и запало. Вот оно, слово-то: его как скажешь, оно так и существует. Я, девонька моя, значенье жизни и понял, лишь когда ослеп. Как бы встарь сказали: посох не в руках моих, посох во мне... Думаешь, небось намолол слепой Феофан? С языка дани не берут, вот и чешет о зубы. Так ведь думаешь. Не так? И то хлеб. А ты, девонька моя, чую, из вередливых. Вот те и погорельская тихоня. Да ты, никак, плачешь?..
Травяная ветошь и замыленная дождями земля скрали шаги. «Располовинен человек, раздвоен. Но что-то же крепит его, – досказал уже самому себе, кожей лица почуяв опустевшую скамейку. – Вроде бы не обидел, – подумал еще, запоздало припоминая разговор, – а вот ушла, и ни здравствуй, ни прощай». И Феофан, распрямленный было и распаленный словом, внезапно потух: одуванчиковая борода, обычно распушенная сквозняками, отсырела вдруг, съежилась, и оспа синь-пороха под желтыми натеками глаз загустела, и веселая кисть на шерстяном колпаке поникла. Брошенный, одинокий человек остался на лавке; его бы кто укрепил сейчас, ведь он расплескался щедро, обнажился и опустошился так, что каждое бы доброе слово, даже кинутое второпях, облегчило бы его состояние. Но никто не звал Феофана, и он сам слепо потянулся туда, где ему чудился праздный, охочий до разговоров народ. И посох привел его.
Пока продавщица товар принимала, к высокому крыльцу магазина неприметно стеклась очередь, в основном старушонки, пенсионное племя, которому, казалось бы, самое время калить бока на печи, но куда там, много не вылежишь, еще весь дом на загорбке: тянись, баба, пока кости несут, пока в задеревеневшей горсти хоть что-то удержишь, – твоя доля не только посеять росток, но и поднять его до спелого колоса, и той, чужой, пашне еще пособить. С последним вздохом и душа вроде бы отлетит, а пальцы, однако, суетятся на одеяле, ищут не потерянное, сбирают не осыпавшееся.
Бренчат бабы бидончиками, тянут словесную канитель, ждут молока. Одеты по своей деревенской старушей моде, которой, кажется, и перемены не будет на Руси: серый полушалок, плюшевая жакетка, пахнущая нафталином и затхлостью, – специально для магазина бережется, чтобы покрасоваться, похвалиться собою, а на покривленных ногах шерстяные носки своей вязки и калоши блескучие, выходные. И Прасковья Осиповна, конечно, здесь: обряжалась – и забылась, из плюшевой жакетки выбился цветастый передник. Видела Параня, как невестка от Феофановой скамьи поспешила по угору прочь, и вдогон ей дунула трубно, не прощая недавней обиды, пук изобразила на посмешку народу и тут же завыставлялась, наверное имея в виду сына:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу