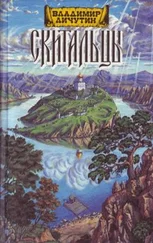– Ну чего ты? – по-детски заныл Степушка, дурашливо припадая к Милке.
– Отстань... не приставай.
И тут в уличную дверь наотмашь запинали, под самыми подоконьями кто-то сладостно и истерично вскричал, не тая в голосе жесткости и угрозы. Знать, так зверино и вольно чувствовалось тому человеку под покровом ночи.
– Милка, стерва, открой.
Степушка от неожиданности вздрогнул, покрылся рыбьей кожей и нырнул в одеяло: почудилось вдруг, что в желтенькое сердечко, вырезанное посреди двери, подглядели их любовную игру. И пока соображал, как поступить, Милка торопливо накинула рубашку и, не колеблясь, вышла в сени. Оттуда донесся ее холодный настороженный голос:
– И не стыдно вам?
– Милка, стерва, подай фраера.
– На-ко, выкуси. Что, завидки берут? Пьяные хари, сопли на губах подберите. Еще рожей не вышли, чтобы указывать.
Так недолго и лениво перебранивались они, и видно, что-то в Милкином голосе (наверное, та снисходительная, полупрезрительная сила, свойственная людям открытым и шальным) заставило их отступить от порога. По круто замешанной грязи зачавкали нетвердые шаги, мерзлая трава под окнами снежно скрипела, кто-то цапался в обшивку стены, силясь заглянуть в окно, но сорвался и матюкнулся сонно, и уже издалека, как бы с того света, донесся разбойный высвист и тут же подчинился вязкой тишине. И только гулко пурхалось в грудных крепях всполошенное Степушкино сердце.
Милка вернулась из сеней слепая, захолодевшая, посторонняя, молча легла на диван и по самую шею наглухо задернулась одеялом. А Степушке вдруг так неприкаянно стало, так совестно, что в пору бы деваться куда к горенки, да только куда двинешь на ночь глядя... А надо было на нож кинуться, надо бы. Вдруг вывезла бы судьба? Как сурок, зарылся в перины, за бабой затулье нашел... Ну и что, их эвон... Их дюжина, поди. Нанизают в потемни, устроят шашлык. Один на один бы, по-честному. Тут я не поддамся, не-е, тут я любому. На нож-то ползти кому охота. Не-е... Живо ошкерают. За товар бы какой страдать, стоящий товар, тогда путем, тогда за дело. Сама тянула, в гости не навязывался. Стерва, поди, каждый вечер водит... А я не боюсь, не-е. Я и не таких шакалов видывал.
Но отчего-то все опало внутри, закаменело, и только мысли шально путались, и Степушка в воображении уже спешил вдогон и с остервенением, до зубовного скрипа вминался кулаком в чужое глиняное лицо. Свет лунный затих, мутно сочился в простенки, но зато электрический, из кухни, загустел, четко располовинил комнату.
Милка недвижно покоилась на диване, лицо ее мертвенно заострилось. Хоть бы вздохнула иль сказала что. Встал на колени подле дивана, легко коснулся волос, пугливо пробежался ладонью, и такая тоска затяжная взяла, так пожалел себя, что в пору бы зареветь. Бормотал:
– Презираешь, да? Думаешь, негодяй? Нет-нет... Ну и черт, ну и черт с тобой. Твое дело.
Веки затерялись в синих провалах, и странно побелевшие, словно бы вымороженные глаза казались фарфоровыми, нагими, и вдруг замутились они, желтая искра полыхнула и выкатилась на переносье. Милка плакала беззвучно, с той горестной, полной отрешенностью, на какую способны лишь женщины, глубоко обиженные любимым. Степушка беспомощно толокся возле, что-то выспрашивал растерянно, а Милка молчала и плакала.
– Ну почему, почему дико так? Я ведь любил тебя, сватался, а ты обсмеяла. А сейчас вот как. Но я не свободный ныне, я занятой, пойми. – Парень пытался проникнуть под одеяло к давно ли доступному телу, шершавыми губами тыкался в заголенное прохладное плечо. – Сама... чего кобениться. Хотел, как хорошо, слышь?
– Отстань, – равнодушно откликнулась Милка, повернулась опухшим тусклым лицом. – Ко-бе-лина... Давно ли свадьбу играл, а уж по чужим постелям шастаешь. Не трогай меня.
С того несчастного свадебного дня, когда укорила свекровь невестку, она словно бы опутала Любу назойливым изучающим взглядом. Усядется Параскева Осиповна по обычаю своему у бокового оконца, широко расставив оплывшие ноги, вроде бы за улицей наблюдает, а сама, однако, укорливо косит ореховым глазом (признак крайнего ее неудовольствия) и будто самой себе ворчит: «Нашему бы сватушке да три чирья в голову. Знамо бы, дак э-э... По-ранешнему-то как: час плакать да век радоваться, до самой смерти, покуда помрем. А нынче, трясоголовые, смеются, пока замуж пехаются, а потом век плачут...» Люба старается смолчать, быстренько размотает бигуди, накрутит влажными пальцами смолевые прядки на висках, тетради в портфель – и уноси бог ноги. Из школы вернется, жилка на переносье потукивает, готовая взорваться, голова ватная, пустая, под глазами сине от усталости: ей бы в самую пору отдохнуть, распластаться в кровати, хоть бы на часок забыться, да где там – совестно. А на обед снова щука, еще вчерашняя, подсохшая на ребрине, порыжевшая, и тяжелый кусок не лезет в горло. Горяченького бы чего самой сварить, ублажить душу, но боязно свекровь обидеть. А Параскеве что: в ладку со щукой кипятку из самовара брызнет, отпарит чуть, развозит по дну короткими тупыми пальцами и щепотью вкусно вымачет застарелую рыбку, каждую косточку и вялую хребтину обсосет. «Чего не ешь, замрешь ведь, – вроде бы сердобольно спросит, а в тяжелом изучающем взгляде насмешка. Куда подевалось прежнее участье, в какой кованый сундук закрылась Паранина душа? – Ой, не ествяная ты девка. На такой работе долго не потянешь».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу