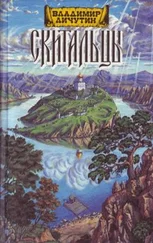– Чего тянешь?! Не трави людей, – окрикнула тетка Матрена, а Саня, улыбаясь застолью, готовно потянулся к хромке. Но что-то грозовое мраком подернуло лицо Параскевы, налитое красниной. Но она смолчала, из рук Фелицаты приняла кулебяку и разломила.
– Вот у меня невестушка-то, – сказала невнятно и хрипло. Молодые переглянулись, Степушка внезапно зарозовел до корней волос, нашарил в подстолье влажную девичью ладошку и стиснул ее, а Люба женским чутьем сразу уловила в голосе свекрови недобрые нотки и побледнела.
– Почто пустая-то?.. – спросил кто-то невпопад. Саня пожал плечами и хохотнул, пожилые родичи переглянулись, украдчиво улыбаясь.
– Параня, а рыбка-то где? Позабыла? – ехидно спросила тетка Матрена. И тут Фелицата сморщилась обиженно и со всхлипом заплакала. Только тогда дошла до всех Параскевина крутая выходка. Дочь подскочила, зло дернула за рукав:
– Мама, опомнись...
– Ты меня не дерьгай! Что я такого сказала? Пустая молодка-то, не соблюла себя, вот.
– Мама, зачем вы так? Парасковья Осиповна... – Отчаянный Любин голос, натянутый до звонкого последнего предела и готовый вот-вот сорваться, словно бы пробудил всех, и в горнице стало невозможно от хмельного галдежа.
– Что мама, что? – обманутая в своих ожиданиях, закипела Параскева, слыша и понимая сейчас лишь себя. – Красок-то в поcтели нету. Где краски, а?
Люба выскочила из горницы, пряча в ладонях лицо. Степушка, роняя стулья, кинулся было следом, но возле матери остановился, ненавистно выплеснул в лицо:
– Не прощу...
– Ты-то хорош? Нужно мне твое прощенье, как заднице ветер, – взвилась Параскева, а после еще и послала подальше, куда Макар телят не гонял. – А вы все... вы чего лыбитесь? Правду-матку нельзя уж стало сказать? Иль соврала чего?
И тут свадьба окончательно споткнулась, ее телегу раскачало на частых ухабах, и вот она рухнула где-то в середине пути. Погорельские родичи сгрудились в углу, недобро косились на кучемских мужиков, часто поодиночке исчезали из горницы, а после и вовсе ушли, не попрощавшись. Лишь упрямый Василист, набычив морщинистую шею, мычал себе под нос:
– Ну и тет-ка, ну и Параня. Чехвостит всех, только перья летят. А меня не-е... Если меня взять, я по всем мастям. Я не фуфло.
...И вот лежит Пелагея под лоскутным одеялом. Куда все подевалось? Куда истекли эта покатая мощь пухлых плечей, сильные, без единой рыхлинки бедра, круто замешанные груди и спелый налив щек. На кровати доживали мощи, оставалась лишь печальная тень от былой горячей женщины, чудился только странный жуткий призрак, покрытый желтой сморщенной кожей, – глухой, беспамятный и почти незрячий. Как-то сразу подкосило, на одном году: непонятная болезнь выпила человека, переменила его, и жизнь ныне считалась на часы. Но тянулась Пелагея со дня на день, все умерло в ней, кроме сердца и обесцвеченных тоскою глаз, которые вроде бы и не закрывались нынче. Посреди ночи ввернет Геласий лампочку, глянет на жену, а больной взгляд на него в упор, утром слезет с печи – и вновь бессонны два немых белесоватых оконца, сквозь которые из самого дальнего нутра сочится какой-то постоянный зов. «Ну чего тебе, скажи? – порой не выдержит старик. – Молока, чаю?» Но глаза все так же зовуще и немо распахнуты.
А заболел-то поначалу Геласий, с год назад, наверное. Плохо себя почувствовал, неделю не ел. И надо же тому случиться: перед тем как слечь старику, решили прорубить новую дверь в горницу, чтобы не ходить через холодные сени, но окосячить не успели. Пелагея и говорит мужу: «Плохая примета, знать, помрешь, дедко». И Геласий, не обидевшись, тогда мысленно согласился, что верно – помрет. Но вышло-то наоборот, смерть пришла за Палатой.
Утром старик собрался к Параскеве Осиповне догуливать свадьбу, потянулся к наблюднику, чтобы достать махорочницу, сронил взгляд на кровать и понял, что жена зовет его. Геласий был давно уж глуховат – застудился на озерах – и подслеповат (а очки висели под божницей), но по неведомому тайному знаку иль по едва уловимому движенью высохшей, почти детской ладошки решил, что Пелагея действительно умирает и просит остаться рядом.
Дочери, так уставшие от матери и ждавшие ее смерти, ушли к Параскеве догащивать. Геласий бездумно снял в красном углу очки, медное седелко ловко осело в постоянную розовую продавлинку над горбиной, и толстые стеколки вдруг вдвое распялили его глаза. Но от этого жена не приблизилась к старику, не стала понятнее в своем желании, как он ни приглядывался к распростертому плоскому под одеялом телу, дожидаясь новой просьбы. Странное такое дело: слышал Геласий натужное дыхание Пелагеи, смотрел на острое землистое лицо, а видел сквозь туман ту, прежнюю, еще в самом цвету, с частой россыпью веснушек на снежном лбу и каштановыми кудельками по вискам. По мелкой походке и открытому заливистому смеху, порой беспричинному, думалось поначалу – бой-баба, уховертка, на ровном месте дыру выкрутит, а как поженились, оказалась молодухой на редкость ровной характером, покорливой и понятливой. Порой, правда, вдруг как заплачет. Спросит Геласий: «Ты чего ревешь-то, дура?» В шутку обзовет, скрывая в голосе ласку. А она: «Тебя люблю, дак».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу