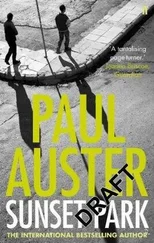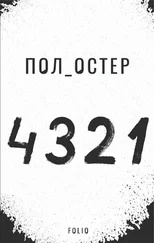Я долго болел. К тому времени, когда меня выписали из больницы, я не только разучился ходить, я с трудом понимал, на каком я свете. Вы должны себя пересилить, сказал врач, и через три-четыре месяца все войдет в колею. Я ему не поверил, однако последовал его совету. Они ведь меня давно приговорили, и после того как я обманул их прогнозы и чудом выкарабкался, что еще мне оставалось, кроме как жить дальше, словно у меня есть будущее.
Я начал с коротких вылазок: пару кварталов прошел — и обратно. В свои тридцать четыре — казалось бы, все впереди — я превратился в шаркающую развалину с заплетающимися ногами, этакий божий одуванчик. Но даже при таком черепашьем шаге в голове все плыло — как будто проводки в мозгу перепутались и противоречивые сигналы побежали сразу во все стороны. Мир плясал передо мной, прыгал туда-сюда, как отражение в качающемся зеркале, и стоило взгляду остановиться на каком-то одном предмете, попытаться отделить его от этого хаоса цветов, будь то голубой шарфик на женской головке или красная задняя фара на проехавшем мебельном фургоне, как этот предмет тут же крошился и растворялся, точно капля красителя в стакане воды. Все кружилось, шаталось, уносилось куда-то, так что в первые недели я толком не мог сказать, где кончаюсь я и начинается все остальное. Я налетал на стены и мусорные баки, запутывался в собачьих поводках и гонимых ветром обрывках газет, спотыкался на ровном месте. Я, который всю жизнь прожил в Нью-Йорке, не узнавал ни улиц, ни привычной толпы, во время моих коротких прогулок я чувствовал себя приезжим, потерявшимся в незнакомом городе.
В тот год лето наступило рано. Июнь только взял разбег, а уже навалилась знойная, давящая влажность, в небе разлилась мутная зелень, в спертом воздухе запахло выхлопными газами и мусорными отбросами, каждый кирпич и бетонная плита дышали жаром. Но я не сдавался, каждое утро я заставлял себя спуститься по лестнице и выйти на улицу, сумбур в моей голове понемногу прояснялся, силы медленно возвращались, и я уже мог предпринимать путешествия в более отдаленные районы. Десять минут растянулись до двадцати, час превратился в два, а затем и в три. Хватая ртом воздух, обливаясь потом, инопланетянин из чужого сна, я брел в толпе и молча взирал на течение жизни, недоумевая, неужели и я когда-то был как они: вечно куда-то летел, опаздывал, пытался объять необъятное. Отрыгался, кузнечик. Мотор захлебывался, и со стороны должно было казаться загадкой, как вообще может двигаться этакая груда металла. Для меня этот крутеж и суетня потеряли всякий смысл. Смеха ради я снова закурил и часами просиживал в прохладных кофейнях за лимонадом и бутербродами с прожаренными бифштексами, прислушиваясь к разговорам и штудируя по три газеты до последней запятой. Время бежало незаметно.
В то утро — 18 сентября 1982 года — я вышел из дому около десяти. Мы с женой жили в районе Коббл-Хилл, между Бруклин-Хайтс и Кэррол-Гарденс. Обычно я брал курс на север, но в этот раз повернул на юг, еще раз повернул, дойдя до Корт-стрит, направо, и прошел шесть-семь кварталов. По небу цвета цемента серый ветер гнал серые облака, выжимая из них серую водяную морось. Я всегда питал слабость к такой погоде, эта угрюмость была мне по сердцу, я ничуть не жалел, что лучшие деньки позади. Пройдя минут десять, между Кэррол и Президент-стрит, я увидел на противоположной стороне писчебумажный магазин. Он вклинился между обувной мастерской и круглосуточно открытым винным погребком, единственным ярким пятном в ряду обшарпанных, неказистых строений. Судя по всему, магазин появился здесь совсем недавно, но при всей своей новизне и витринной завлекательности (в башнях из шариковых ручек, карандашей и линеек угадывался силуэт Манхэттена) «Бумажный дворец» был слишком уж маленьким, чтобы сулить какие-то открытия. Тот факт, что я все же пересек улицу и вошел внутрь, говорит лишь о том, что в глубине души я хотел вернуться к работе — просто я этого еще не осознал, желание вызревало во мне подспудно. После того как в мае я вышел из больницы, я не написал ни строчки, ни одного слова, и главное, даже не собирался. А тут вдруг после четырех месяцев апатии и молчания мне взбрело в голову закупить все сразу: новые ручки и карандаши, блокнот для записей, чернила и ластики, отрывные листки и папки, — короче, полный боекомплект.
За кассой при входе сидел китаец, на вид моложе меня, и, еще до того как я переступил порог, через стекло я увидел, как он, склонившись над блокнотом, аккуратно выводит столбцы цифр простым карандашом. Хотя то утро выдалось прохладным, на нем была рубашка с короткими рукавами, такая, знаете, летняя распашонка, из которой торчали смуглые руки-спички. Когда я открыл дверь, раздался легкий перезвон, и он на секунду оторвался от дела, чтобы приветствовать меня вежливым кивком. Я кивнул в ответ и не успел открыть рот, как он уже вернулся к своим расчетам.
Читать дальше