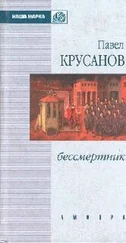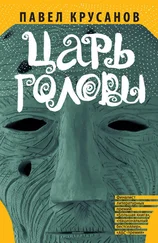– Сон – не сон, – сказал Тукуранохул, – а мне вот хочется просыпаться и не ощущать разницы. Нам пустяка для этого всего и не хватает: помолчать, сосчитать в уме хотя бы до шести с половиной и осознать стиль как предпоследнюю истину. В широком, то есть, смысле.
– А что же поглавнее?
– Не знаю. Всегда что-нибудь найдётся.
Приблизительно справа шуршали машины, под ногами чёрной сковородой с остатками постного масла лоснился асфальт тротуара, впереди, в академической перспективе, неоном (аргоном?) мебельного светилась запотевшая Пантелеймоновская. Гвоздюков шёл по тротуару и чувствовал свои ноги. В блаженной бессмыслице Гвоздюков выкладывал город плотными петлями – он цель не обретал, он удалялся, и это определённо было развитие. В ладонь ему уже падал немой миг абсолютного величия, засевшего в щёлке между вопросом: «Пенсне – не атрибут ли покаянья?» – и ответом: «Это ж какая нагрузка гнетёт лопатку турбины, когда с затвора пускают воду!» – величия, тождественного совершенному знанию, ещё не разбежавшемуся, подобно паучатам из кокона, в разножопицу наук, религий, любомудрия и искусства, величия, непостижимо вместившего связь бессвязных предметов. Словом, наитие падало. Гвоздюков сжал ладонь, посмотрел на трепетное перо Тукуранохула и сообщил счастливо:
– Ну, вот и всё. Пожалуй, sapienti sat.
– Это, стало быть, хватит? – удивился Тукуранохул. – Но я ещё не рассказал, как принято в домашней обстановке выращивать мандрагору. Казалось бы – пустяк, однако есть и тут свои секреты. Вот слушай: в цветочной кадке с чернозёмом, песком, толчёным кирпичом и летней пылью с просёлка хоронят семя висельника. Поливать следует скупо, но ежедневно – капустным соком, росой с подвальных труб и слезами некрещёного младенца, а если хочешь девочку, тогда необходимо добавить ночную женскую слюну, но так, совсем немного. Держать зимой, конечно, приходится у батареи, а с мая можно ставить на окно, под солнце, хотя необязательно. Питомец неприхотлив, поэтому до поры о нём не то что забывают, но по часам кроить день не приходится, как было бы со спаниелем или хомячками. Можно по-прежнему, не сверяясь с циферблатом, отправляться в кино, кропотливо выпиливать лобзиком, крошить уткам бублик, клеить из спичек корабли, выкладывать чёрные кирпичики домино, ходить по грибы или на язя, ватагой брать снежную крепость, жечь рыхлую шёрстку тополиного пуха и т. п., сообразно пристрастию. Когда же – месяца через четыре – появятся на свет первые зелёные прядки, почву нужно подкормить творогом и полить спитым чаем. Если прежде в доме не подкопилось ползунков и распашонок, ещё осталось время для белошвейных дел – лишь через три примерно лунные фазы приступают с деревянной лопаткой к извлечению мандрагоры из кадки. Порою при расставании с землёй малыш кричит, и кажется, что просит жертву, но это морок, предрассудки – младенец робок и не кровожаден. Его легко напугать неловким жестом или резким звуком – тогда он тает в воздухе, как завиток дыма, и никогда уже не возвращается на место своего детского ужаса. Чтобы этого не случилось, обычно сморщенное существо греют в ладонях, где оно сопит и трогательно вздыхает, а после расчёсывают гребешком волосики. Вот, собственно, и всё. Осталось малыша выкупать, обтереть вафельным полотенцем, дать ему на блюдечке молока, пожаловать родовой герб, флаг и гимн и лишь затем отворить ему уста и вложить разнообразные речения.
На Пантелеймоновской, у заведения с цепким названием «Лоза», Гвоздюков вспомнил, что он ещё есть. Ну, есть, и всё тут. Следом он вспомнил, что заходить внутрь ему не стоит, так как сей миг только он вышел наружу. «Лоза» отпустила его. Крадучись он отошёл от витрины и, опершись на жёлтую, холодящую из-под краски металлом ограду тротуара, посмотрел на картонно кренящиеся дома. Что-то было в городе от бабочки, взлетающей в немыслимо замедленном рапиде.
За оградой попыхивали выхлопные трубы. Лица прохожих казались стыдливыми. Вяло артикулируя и невнятно слогоразделяя речь – целая канитель, – Гвоздюков сказал своему наперснику:
– Знаешь, я домой пойду.
Того, казалось, он и ждал. С шипением, разбрызгивая за собой бело-зелёные искры, Тукуранохул взлетел над Пантелеймоновской и ослепительной шутихой, по тугой траектории, как огненная собака, погнавшаяся за хвостом, унёсся в чёрное небо. Осветились на миг мертвенным сиянием нависшие стены, лепные драконы, тяжёлая рельефная надпись «Основано въ 1893 г.», крашеная штукатурка, на которой влага вздула разнообразной формы пузыри, и всё пропало. Как не было.
Читать дальше