Он её не боится, некое чутьё подсказывает ему, что не затем среди ночи абсолютно бесшумно подступает она к окну, чтобы внушить ему страх, всполошить мать или сотворить иное что недоброе, а ради того, чтобы сообщить ему что-то важное, важное для неё самой или для него, но то ли вызволить из памяти не может — что конкретно, то ли — силится-силится, но так и не подберёт нужных, незаменимых в этом случае слов — как ведь оно: каждой молитве своё слово. Если днём пробовать восстановить, то получается, будто стоит она в их палисаднике, около берёзы, либо, что мало вероятно, сидит на подоконнике пустого окна противоположного, давно обезлюдевшего дома, где когда-то жила девочка, его ровесница, летом ходившая на высоких ходулях, а зимой… Да, но ведь глаза-то-светлячки будто совсем рядом, кажется, что возле самого стекла, будто бы даже и запотевающего порой, чуть попрохладней ночь, от её дыхания. Да нет, однако, это уж так, надуманное. Да, однако, это надуманное. Да, однако, это… Как стоит долго, например, и пристально смотреть на стену и думать о… о… пусть о распятии, допустим, и проявится, непременно проявится на стене оно. Затем: сомкни веки, вспомни что угодно, хотя бы ту одичавшую кошку, взгляни снова — голая, пустая стена, и никакого на ней распятия, и уж будто проступают, проясняются контуры изогнувшейся в хребте сердитой кошки, и… А смотрит она обычно до тех пор, пока мать не задует лампу. Конечно: всё, что было при свете, погрузившись в темноту, уходит от неё, перестаёт для неё быть. Уходит и она. Как и в прошлом году, она стала появляться с Успения… Сулиан, а это как: Успение? Мне это не понять? Понять, понять, это: Успение Пресвятой Богородицы… Заступницы… Владычицы… И снова, наверное, проблудит здесь до первого снега, а потом потопчется у дома Епафраса, своего отца, творца ли, скроется за выскорью листвяжной и убредёт в сторону Глухих увалов. Интересно, что она там делает? Сулиан говорит, что на Глухих увалах медвежье кладбище. Даже сам Сулиан не смеет туда заглядывать, минует кругом, по Межнику и Ендовищу. А это, говорит мать, не ближний свет, куда там. А тогда она, мать, вышла с кухни, сунула в руки Сулиана кружку и сказала: «На, лакай, волк, не захлебнися тока», — и отошла, и вытерла о передник руки, и присела на лавку, а потом, словно спохватившись, и говорит: «Чё ты всё тростишь, язышник: кладбище, кладбище?.. Заладил тоже, как долдон. Откэль ты знашь? Сам же гундосишь всё, что не бывал там». А он, Сулиан, ей: «А мне и бывать там не по чё, от стариков слыхивал… не дурне нас с тобой были. Туда, жэншына, со всей тайги околоточные медведи сходятся». А мать тогда: «А кто хоронит-то их, еслив ты знашь всё, такой-то умный?» А у Сулиана с кружки на штаны дегтярные капает брага охристая, отирает Сулиан ладонью дно кружки ласково и говорит: «А никто… сами себя». А мать: «Болтун… он и есть болтун. Тебя послушашь, дак…» — и вроде забыла обо всём, смотрит в пол рассеянно… О, уже третий день носится по новому маршруту. Раньше он выползал из-за образа Николы Угодника, по прямой добегал стремглав до жёлтого — на Пасху ещё плеснул Сулиан пьяно из стакана бражную гущу — пятна, словно болотце или озерцо, огибал его, а затем спускался отвесно к столу, шустро, останавливаясь у каждой крошки, с угла на угол пересекал столешницу и часа через два забегал за образа уже с другой стороны. Где он проводит это время? Куда он бегает? На свидание? Нет — он благочестивый: он даже живёт возле Святых. Опять же — свидание ведь может быть и деловым — что по хозяйству, хлопоты какие… Да, а теперь он не посещает жёлтое пятно. Сначала из-за иконы показываются его беспокойные усы — когда солнечно, а когда морочно, не видно этого, — потом — маленькая голова, и по исходе раз-два-три-четыре он проделывает стремительный бросок от своего логова к столу. Может быть, выветрился окончательно из пятна запах бражки, и оно его больше не привлекает? Да то ли? Мог ли его манить подобный запах?.. Это самый крупный и, вероятно, самый старый таракан в избе, по какой-то причине покинувший более тёплое место на полатях или на печи и, как Преподобный Маркиан, удалившийся в пустынь, таракан, которому он так и не изобрёл имя, который, видимо, так и исчезнет, не обретя его. Назвать таракана Сулианом показалось ему делом грешным, хотя, безусловно, сходство между насекомым и стариком какое-то существовало, и стоило ему увидеть одного, как тут же приходил на ум другой. Было так, вероятно, из-за усов, из-за чего ж ещё-то. Когда Сулиан, отвалившись к стене, в ночь на какой-нибудь или с какого-нибудь праздника, дремлет у них на лавке, усы его шевелятся сами по себе, оживают словно, — диковинно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
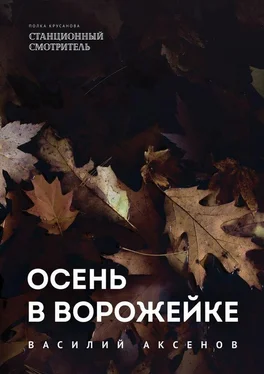


![Василий Аксёнов - Время ноль [сборник]](/books/29609/vasilij-aksenov-vremya-nol-sbornik-thumb.webp)



![Василий Аксёнов - Малая Пречистая [litres]](/books/392707/vasilij-aksenov-malaya-prechistaya-litres-thumb.webp)
![Василий Аксёнов - Золотой век [сборник]](/books/426534/vasilij-aksenov-zolotoj-vek-sbornik-thumb.webp)



