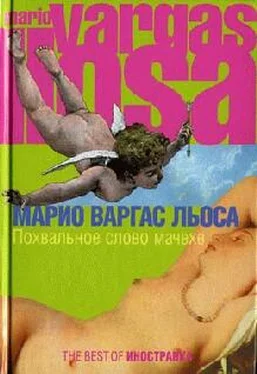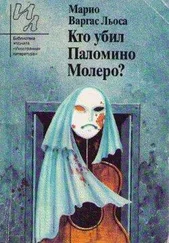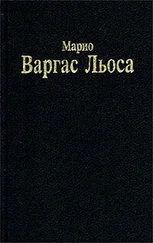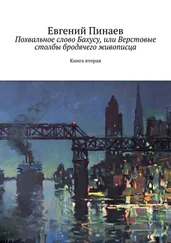Поочередно зажимая пальцами каждую ноздрю, он звучно высморкался в платок. Очистив нос, взял в одну руку лупу, с помощью которой изучал почтовые открытки и эротические гравюры, а также производил гигиенические процедуры, в другую – маникюрные ножницы и принялся освобождать ноздри от неэстетичных волосков, чьи черные кончики уже успели проклюнуться за семь дней, прошедших после очередной операции. Для того, чтобы успешно провести ее и не порезаться, требовалась кропотливая сосредоточенность персидского миниатюриста, но душу дона Ригоберто неизменно осеняли мир и покой, весьма схожие с состоянием "полной пустоты", описанной мистическими философами.
Непреклонная решимость подчинять себе самоуправство тела, заставляя его существовать в строго определенных эстетических рамках, отмеренных его, дона Ригоберто, державным вкусом – ну, и вкусом доньи Лукреции, – в сочетании с высоким мастерством выщипывания, выдергивания, подстригания, сбривания и прочего отделяла его от всех остальных мужчин и вселяла в душу чудесное ощущение того, что когда он во тьме спальни соединится со своей супругой, он достигнет вершины – освободится от времени. Впрочем, это было даже не ощущение, а некая физическая непреложность. Все клетки его тела в эти минуты освобождались – пощелкивали серебряные ножнички, и, невесомо кружась в воздухе, падали состриженные волоски и смывались в сток струйкой воды – освобождались от ущерба, творимого временем, обретали независимость от кошмара бытия. В этом-то и состояло колдовское достоинство ритуала, открытое некогда в доисторические времена дикарями: они научились на несколько вечных мгновений превращать человека в существо, очищенное от существования. А дон Ригоберто своим умом дошел до этого, сам постиг эту мудрость, сам воссоздал ритуальное действо. Он подумал: "Я изобрел способ отрешаться в одно мгновение от мерзостного упадка, от коммунального рабства, навязываемого цивилизацией, от гнусных условностей стаи и стада; я научился достигать, хотя бы на краткий срок, независимости". Он подумал: "Это предвестие бессмертия". Слово "бессмертие" не показалось ему слишком сильным. В это мгновение – а ножницы продолжали пощелкивать – он почувствовал, что недоступен порче и тлену. А скоро, в объятиях доньи Лукреции, он осознает себя как властелин и владыка. Он подумал: "Я стану богом".
Туалетная комната была его храмом, умывальник – жертвенником, а сам он – первосвященником, отправляющим службу, которая еженощно очищает его и выкупает его у жизни.
– Через минуту я буду достоин Лукреции, – сказал он. Поглядев на себя в зеркало, он дружелюбно проговорил, обращаясь к своему могучему носу: – Слышишь, ты, ворюга, совсем скоро мы с тобой окажемся в раю.
Ноздри сладострастно раздулись, принюхиваясь ко грядущему, но вместо терпких сокровенных ароматов доньи Лукреции ощутили только асептический вкус мыльной воды – ею дон Ригоберто, дергая, как конь, головою, полировал уже очищенные от слизи полости ноздрей.
Теперь, когда самая деликатная часть носового радения была выполнена, мысли его смогли вновь обратиться, воспарив, ко всегдашнему предмету – супружескому ложу: он вдруг связал образ ожидающей его доньи Лукреции с труднопроизносимым именем голландского историка и эссеиста Иохана Хейзинги, одну из статей которого он знал едва ли не наизусть, поскольку убедил себя, что написана она для него, дона Ригоберто, для нее, доньи Лукреции, для них двоих. Закапывая в нос чистую воду из пипетки, он задал себе такой вопрос: "А не есть ли наша постель то магическое пространство, о котором толкует "Человек играющий"? Да, по преимуществу!" По мысли голландского мудреца, культура, цивилизация, война, спорт, закон, религия проросли из неистребимой склонности человека к игре. Занятная мысль, спору нет, занятная и тонкая, но совершенно неосновательная. Целомудренный голландец не развил гениальную свою догадку, не применил ее к той сфере, которая подтвердила бы ее, которая бы все озарила своим светом, не оставив темных мест.
"Волшебное пространство, территория женщины, заповедный лес чувств", – думал он, подыскивая метафоры для той маленькой страны, где жила в эту минуту Лукреция. "Мое царство – это моя постель", – провозгласил он. Он вымыл руки, вытер их полотенцем. Просторное трехспальное ложе позволяло чете ложиться в любом направлении – вдоль, поперек или по диагонали, протягиваться во всю длину и даже кататься, сцепясь в радостном объятии, без риска свалиться на пол. Оно было и мягко, и упруго, снабжено крепкими пружинами и столь гладко, что тело не встречало на его пространстве ни малейшей неровности, которая послужила бы препятствием к исполнению задуманной позиции в любовной игре, помешала бы двигаться или застыть наподобие скульптурной группы.
Читать дальше